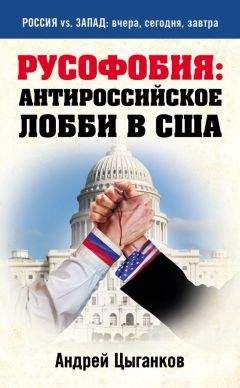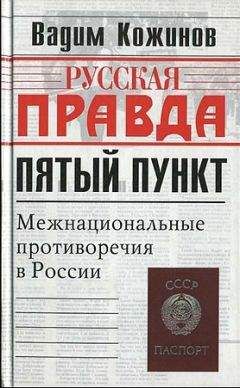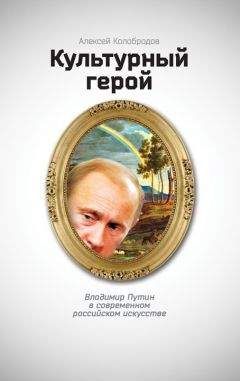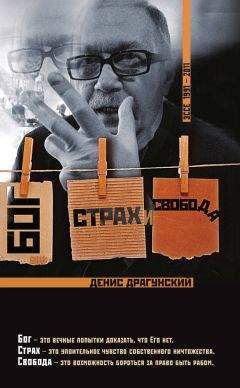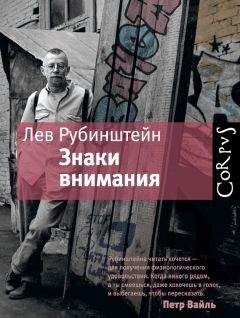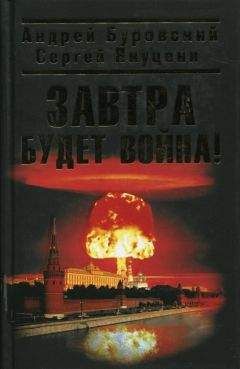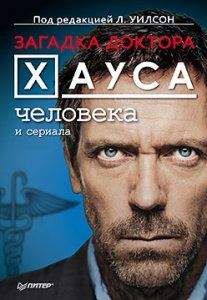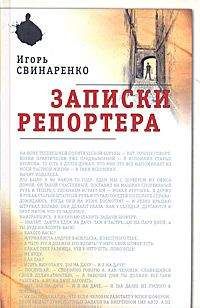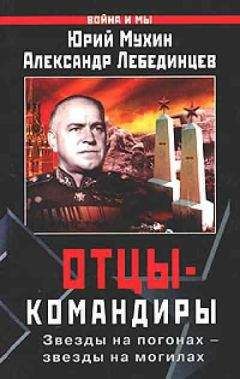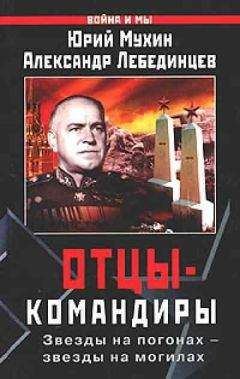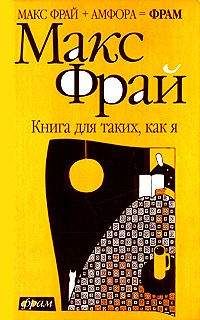Капитолина Кокшенева - Порядок в культуре

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Порядок в культуре"
Описание и краткое содержание "Порядок в культуре" читать бесплатно онлайн.
Капитолина Кокшенева — не просто критик, но исследователь, и не просто исследователь, но поисковик. В основе ее творческого метода — отнюдь не бесстрастный анализ происходящего в искусстве, но заинтересованный поиск того, что поможет человеку обрести животворную связь с историческими судьбами своей страны. Поиск сил, что в конечном итоге свалят с русской культуры саркофаг, старательно натягиваемый на неё ревнителями трупного модерна и «универсальных ценностей». Новая книга Капитолины Кокшеневой исследует современную прозу, кино, театр, живопись и дает ответы на самые жгучие вопросы нынешнего культурного бытия.
А когда он говорит о детстве (книга «Грех»), он будто распахивает просторы родины для любящего взора, описывая кроткие русские пейзажи, с днями длинными и прекрасными, ужасно благотворными для самого важного счастья — детского. Оттуда, из детства, тянутся питательные токи к нему сегодняшнему, но без того яркого детского счастья, он бы сегодня так не написал: «Родина ляжет тяжелым снегом, и как в детстве, весь усыпанный — по моей же просьбе дружками-пацанвой, — я чувствую теплоту и задыхаюсь от ощущения бесконечного детства. Темно. И тает на губах».
У Прилепина нет радикализации повседневности: обыденное, частно-интимное, напротив, для него альфа и омега бытия. Привычный реестр счастья — это и есть внутреннее ядро его прозы. И тут он был удивительно нежен в слове. Обыденность совсем не деспотична — она всегда источник радости, потому что в ней была существенная простота. Был дедов дом, была бабушкой поджаренная картошка, был «весь этот день и его запахи краски, неестественно яркие цвета ее, обед на скорую руку — зеленый лук, редиска, первые помидорки, — а потом рулоны обоев, дурманящий клей», а «под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина — прозрачная и нежная, как на кладбище». Была яркая и жаркая ранняя любовь, в которой все жило скромно и бестелесно, но которая научила понимать собственное тело, угадывать грех его желаний. «…Всякий мой грех… — сонно думал Захарка, — …всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, — оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком…». Чистая и ясная проза.
Захар умеет писать о любви, свободе и «пацанской» дружбе в полную силу. Свободу он понимает по-мужски: ему кажется вполне подлым желание избавиться от всякой ответственности, ему ненавистна пустая трескотня рыночного времени, его герои не нуждаются в том, чтобы кто-то снял с них чувство ненависти к ненастоящему, «бумажному» миру. В «Жилке» (рассказ) как раз и переплелись эти главные темы — любви и свободы, особенно обостренно чувствуемой перед угрозой ее потерять.
Рассказ дышит просторно, вольно, но постепенно наполнится сдержанной тоской, чтобы потом, в финале, выплеснуться радостью мужской дружбы. «Жилка» — просто рефлексия-воспоминание о ссоре с женой и прозрачном мае; о большой тайне любви между этим мужчиной и этой женщиной, — о тайне, неизбежно убывающей в усталой, «почти неживой» его женщине. Прилепин много сказал существенно-простого о своем герое в этих скупых описаниях — нет, не секса, но состояния «мы вместе» через самые тесные, подспудные объятия— во сне. Эта тесная телесность, эта переплетённость, врастание друг в друга — будто еще и страх потерять друг друга, будто чистая удивляющая радость одной плоти мужа и жены. А потом будут утраты — жизнь ли, сами ли украли друг у друга эту хрупкую близость? «Я обнимал ее, — но она отстранялась во сне… Я помню это ночное чувство: когда себя непомнящий человек чуждается тебя, оставляя только ощущение отстраненного тепла, как от малой звезды до дальнего, мрачного, одинокого куска тверди. И ты, тупая твердь, ловишь это тепло, не вправе обидеться». Жесткая пластика рассказа становится несколько иной именно тогда, когда герой помнит о «счастье любви»: «А ведь какое было счастье: тугое как парус». Жар от любовных строк остается, однако, внутренне-сдержанным. Вообще в любовной теме Прилепин умеет себя «держать в узде», что только лучше и ярче передает ощущение благодарной — мужской — сильной нежности: «Верность и восхищение — только это нужно мужчине, это важнее всего, и у меня было это, у меня этого было с избытком! — вдруг вспомнил я с благодарностью». Мужчина без своей женщины-жены, которой он дарует материнство, отлучен слишком от многого: отлучен от полноты мира, от радости сердца и «огромного света». Да, собственно, счастье, которое было, и делает его бесстрашным и сильным, возвращает ему достоинство — он не желает бегать как заяц, петляя и заметая следы, от опасности (возможного ареста). Вообще этот переход в состоянии героя напомнил мне классическое: толстовского Пьера, который вопрошал, — и это вы думаете взять меня в плен? Мою бессмертную душу?
Прилепин здорово обновил современную русскую литературу. После придурков, которые ели свой кал; после мерзких старушечек Авдотьюшек, странного народца-уродца и рядом с припадочными извращенцами, дебилами, например персонажами елизаровских «Кубиков», прилепинский герой выглядит положившим предел литературному нигилизму и обладающим шансами противостоять антиидеалу современной литературы.
О каких «шансах» я говорю?
Во-первых, мы видим некоторое возвращение на классические устойчивые позиции: над жизнью у Прилепина все-таки есть Судия, а значит — не все позволено. Для моего поколения в этой позиции нет никакой смысловой и жизненной новизны — но Захар высказал ее после чудовищной деструктивности «ликвидаторской литературы» постмодернистов, потому и прозвучала она оздоровляюще. Во-вторых, Прилепин любит сильную жизнь. Это правда, что деревенские корни Прилепина дали ему много того, чего нет у городских. Земляной, животный (живот-жизнь) привкус его прозы очевиден и силен. Он возьмет да и пройдется по жизни жарким словцом, — схватит, не церемонясь с модами и «тонкими вкусами», какую-нибудь русскую жизнь князя Святослава («бритого, потного»), да и швырнет в публику такой картинкой: «Сырая конина, рвет зубами. Шальная голова не знает, что быть ей чашей». И напомнит всем, что он «пришел из России», а потому не боится сказать, что бывало у нас всякое — и «потоки железные», и «звон, медь, пески сыпучие, запах сырого сукна» в Гражданскую войну, и «…заскорузлые, злые и пьяные повстанцы Разина Степана Тимофеевича. Шпана, гулебщики, негодяи…» — было всякое, но все это наше, наше, наше. И такие мы. И сякие. Зато «в самых страшных войнах мировых победили мы. В мире тысяча национальностей, а победили только русские. И воспели свои победы, в былинах, в песнях, в романах. И хорошо воспели».
На фоне бесконечно множащихся бессильных текстов, ложного разнообразия героев, кастрированных авторской волей до недочеловеков, — на таком фоне прилепинская проза читается ободряюще. Ободряюще потому, что к концу XX века уже начинало казаться, что поколениям нечего сказать друг другу. Казалось что одни, наши старшие, кто изнемогал под тяжестью мертвого для них духа рыночного порядка, одиноко надрываются и почти надорвались — как Валентин Распутин в повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Казалось что другие, моложе, ушли из литературной профессиональной среды почти-что в одиночество, в «затвор» — как Олег Павлов. А между ними в зрелой силе нынешние пятидесятилетние — вот уже вообще «незамеченное поколение» — продолжают думать и писать, не оглядываясь ни на кого. Просто делают свою работу. И были все глухи друг к другу, изредка испытывая взаимную ревность и, в принципе, не боясь ни разрывов, ни одиночества. Привыкшие к тому, что их не слышат, старшие, конечно же, страдают. Как многим из них казалось (и справедливо казалось), что им недодали славы, внимания, почестей! А Прилепин не ждал, что позовут, но шел и открывал двери сам. И вот уже «светские львицы» что-то лепечут о том, что чему-то в нем не верят; и вот уже банкиры ведут с ним «литературные споры», — на самом-то деле споры эти социальные, буржуазным страхом пронзенные. Его всюду зовут. И он идет, заставляя себя слушать.
Он как-то враз, победительно приказав как хорошо выдрессированному псу: «Рядом, время!», ухватил это самое время крепко и сильно. Просто перестал считаться с тем, что молодежь у нас давно уже пребывает в статусе человеческого черновика, а сделанное в молодости как бы и вообще не считается настоящим. Он, реально побывавший в разных кругах земного ада, просто отвернулся от псевдодраматизации жизни, чем любит заниматься современный литератор, страдающий как раз острой жизненной недостаточностью, а потому выковыривающий реальные впечатления из помойки — интеллектуальной, эмоциональной, идейной. Называя книги своих эссе «Я пришел из Россия», «Terra Tartarara: Это касается лично меня», перенасыщенный любовью к своей земле, Прилепин отказался играть в литературу. Он ей живет — это его любимая работа. Писатель предлагает такое отношение к миру: он утверждает состоятельность тварного мира, он защищает право человека на простейшее и фундаментальное в бытие. Цивилизации смерти, — «технологичному и сознательному отвержению жизни» (а именно такова она сейчас), — он противопоставил идею жизни как полыхающей, роскошной силы. Жизни юной, огненной, злой и активной, с мужественной и безжалостной волей, где беда и любовь, где ненависть и чистый запах младенца, где кровь, боль и неистовая тоска, где хлеб и водка, где родина и любимая женщина абсолютно равны друг другу: «Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина одна». Аксиомы. Они — генетический код прозы Захара Прилепина, не желающего никакого истощения внутренних, скрытых задач этого «кода». Да, «реальный мир» вновь вошел в моду. А значит — главные инстинкты, «романтическое мужество» и молодой «бунт проклятых», продленные без мысли во времени и пространстве, чреваты разложением и бесплодием. А значит — они вновь должны быть преобразованы, напитаны, защищены сознательной силой традиции, к огромному ресурсу которой Захар Прилепин только прикоснулся. Проза Захара Прилепина — энергетическая. Только в отличие от тупых напитков-энергетиков, в ней доминирует настоящая сила жизни, крепко заточенная им в слово.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Порядок в культуре"
Книги похожие на "Порядок в культуре" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Капитолина Кокшенева - Порядок в культуре"
Отзывы читателей о книге "Порядок в культуре", комментарии и мнения людей о произведении.