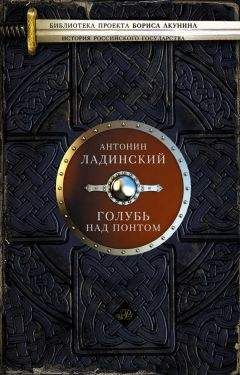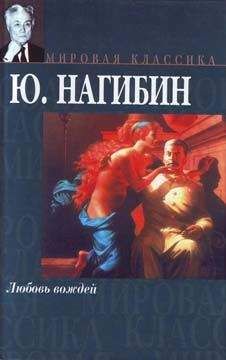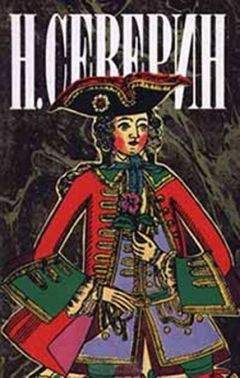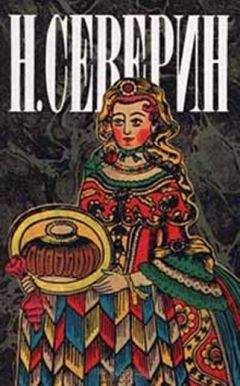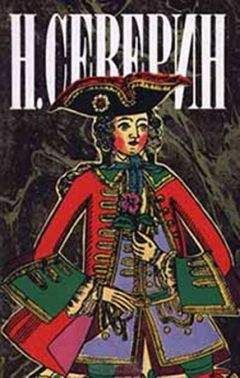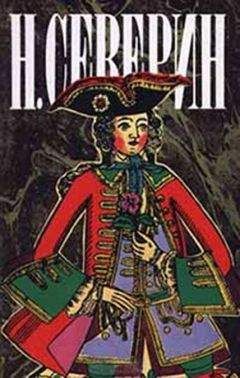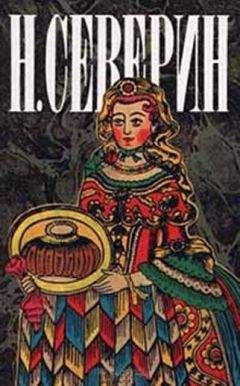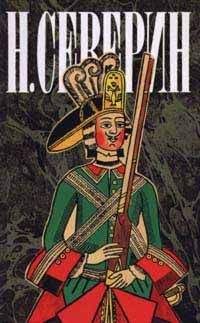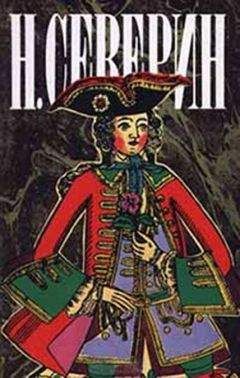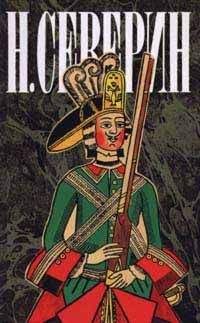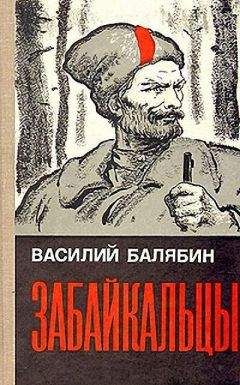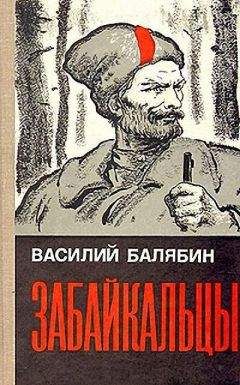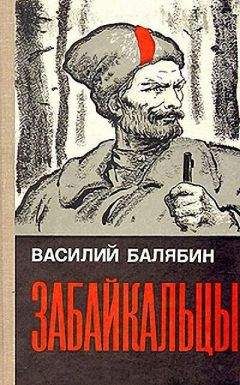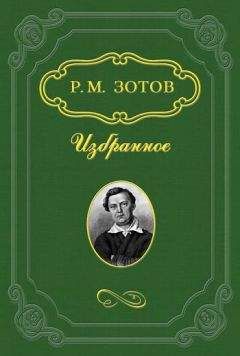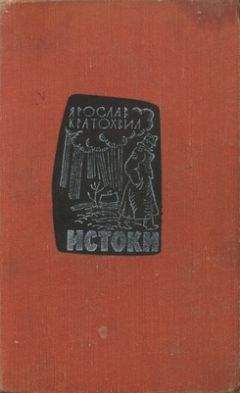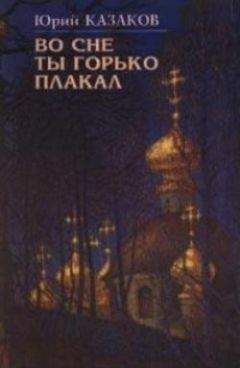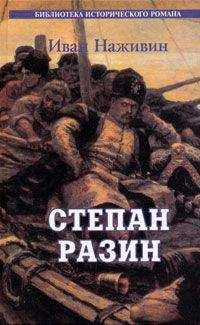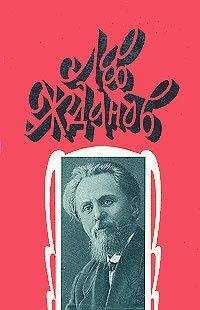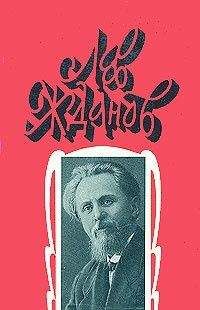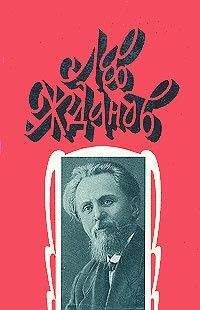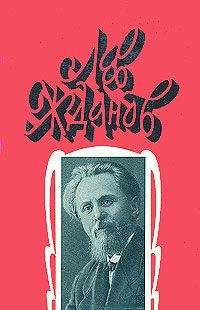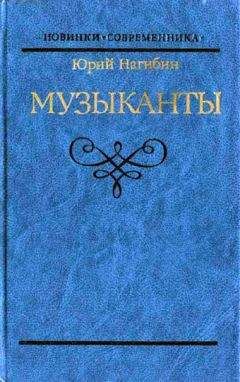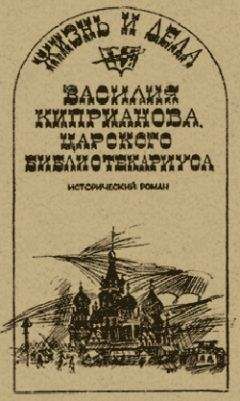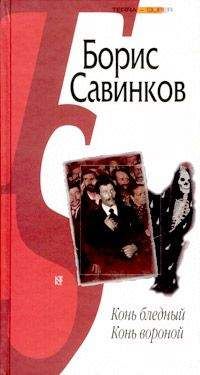Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
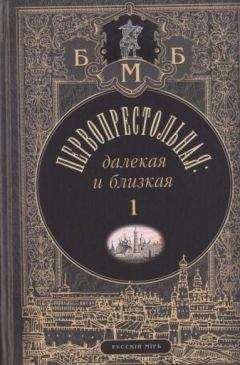
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Описание и краткое содержание "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1" читать бесплатно онлайн.
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.
В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
— И середь поганых люди хорошие бывают, — сказал князь Семён Ряполовский. — Мне сказывали, что во время мора — лет пятьдесят тому назад — померла в Новегороде инокиня одна: не то что померла, а обомлела, должно, потому вскоре после того она встала опять живой и стала рассказывать всем, кого видела она в раю и в аду. Маненько не доходя до ада, сказывала она, увидала она будто одр, а на одре пса лежаща, одеяна шубою собольею. И спросила она: «Почему-де тут пёс находится?» И сказали ей, что то агарянин поганый, который при жизни, вишь, добер больно был. Особенно любил он выкупать невольников и даже птиц пойманных. В рай, знамо дело, попасть он не мог, потому не потщился принять веру истинную вовремя, но за хорошую жизнь от мук будто был избавлен. И вот, зловерия его ради, оставил ему Господь образ пёсий, а шубою многоцветною объяви всем о добродетели его, которая, как видится, и неверным помогает. Ну, сказывай, Бородатый — это я только так, к слову.
— Ну, потом попал наш Никитин в Ерусалим ихний, — уютно продолжал дьяк. — Тамо находится у их храм бога ихнего, Буты, величиной, пишет, в пол-Твери. А болван Буты из камени вырезан вельми велик, да хвост у его висит, а руку правую поднял высоко да простёр, аки Устьян[30], царь цареградский, а в левой руке копьё. Из одёжи на нём ничего нету, пишет, а виденье[31] его обезьянье. Жёнки его, Бутовы, наги вырезаны, тут же округ стоят. А перед Бутом вол поставлен, вырезан из камени чёрного и весь позолочен, а целуют его в копыто и сыплют на него, как и на самого Бута, цветы. Индеяне вола зовут отцом, а корову матерью.
— Ахххх! — негодующе всплеснули руками великий государь и бояре. — Ну, неча сказать: додумались!
— Потом есть ещё Аланд-город у них, и в том Аланде-городе птица гукук летает, — продолжал уютно дьяк. — И всё кличет: гукук! А на которой хоромине сядет, то тут человек умрёт, а кто её отогнать хочет али убить, ино у неё изо рта огнь выйдет. А мамоны[32] ходят по ночам да имают кур, а живут в горе или каменье. И есть у них свой князь обезьянский да ходит ратию своею, да кто мамону обижает, то она ся жалует князю своему, и он посылает на того рать, и она пришед на град, дворы разваливает, а людей побьёт.
— Ахххх! — всплеснули опять длинные рукава вокруг костра. — Ну, скажи, пожалуй…
— Да, — подтвердил Бородатый. — А рати их мамоновой, сказывают, вельми много, и языки у них свои, а детей родят вельми много обезьянских. Да который родится не в отца и не в мать, тех гиндустанцы эти самые, индеи, имают да учат их всякому рукоделию, а иных продают в ночи, чтобы взад, в камение своё, не знали побежати. А иных учат плясати.
— Батюшки мои! — ахнуло всё вокруг костра. — Ну, и Никитин-тверяк, а гляди чего навидался! Тут со страхования одного ума решиться можно. Ну?
— Да всего и не перескажешь, великий государь, — сказал дьяк. — А вот, Бог даст, вернёмся на Москву, я скажу дьяку Василью Мамырову — рукописание-то купцы тверские ему передали, — чтобы он тебе его доставил. И пишет Никитин, что скоро он там в счёте дней совсем запутался и не знал, ни говейно когда, ни Рожество, ни среда, ни пяток, ни праздники. И стал эдак парень задумываться, нись наша вера правая, нись иха…
— Аххх! — дохнуло всё ужасом в ночи. — Это не иначе как нечистый смущал. Ну, и что ж он, устоял?
— Устоял, — успокоил всех уютный дьяк. — Как можно не устоять? Ну только, пишет, не любо там мне всё стало и устремился я-де умом на Русь. И вот после всяких приключений добрался он до града Трапезунда и, переплыв море, вернулся-таки, наконец, всего наглядевшись, на Русь. Да не сподобил его Господь Тверь свою увидать: в Смоленском захворал да и отдал душу Богу… А в конце рукописания своего, великий государь, Никитин, царство ему небесное, вечный покой, приписал гоже так: «Земля Русская, да сохранит её Бог, — пишет. — В этом свете нет такой прекрасной земли больше нигде. Да устроится, — пишет, — Русская земля!»
И голос уютного дьяка Бородатого тепло дрогнул.
Глаза Ивана просияли.
— Да, да, — тепло проговорил и он. — Да устроится Русская земля! Ну, царство ему небесное, вечный покой, — перекрестился он. — Таких бы вот хитрецов мне поболе.
V. НОЧНЫЕ ДУМЫ
Скоро бояре позёвывать стали. И Ивану полежать захотелось. Он милостиво отпустил бояр, ушёл в шатёр, помолился маленько и улёгся. Под медвежьим одеялом было тепло, как на печи. Вокруг стояла мертвая тишина — только караульные, скрипя снегом, похаживали вокруг шатра государева да иногда зевали тихонько. Но сон не шёл к Ивану. Он опять и опять ушёл в те думы, которые передумывал он не раз над шахматной доскою жизни. Игра шла у него как будто слава Богу, но надо было всегда быть начеку.
Первым браком Иван был женат на Марье Борисовне, дочери великого князя тверского. От неё у него был сын, Иван Молодой. Но великая княгиня вскоре померла — ходили глухие слухи, что недруги отравили её. Не прошло и двух лет, как Иван задумал снова женить-ся. В 1469 году был прислан в Москву от известного философа-гардинала Виссариона, одного из греческих митрополитов, подписавших флорентийскую унию[33], гречин Юрий. В своем письме к Ивану гардинал-философ предлагал ему руку царевны византийской Софьи, которая после гибели Царьграда от руки агарян жила в Риме и славилась на всю Европу своей неимоверной толщиной. Гардинал уверял великого государя, что Софья из преданности вере своей греческой уже отказала в руке королю французскому и дуксусу медиоланскому. Иван сразу учёл выгодность для себя такой партии — в лице Софьи к Москве как бы переходила вся былая слава Византии — и отправил в Рим итальянца-выходца, монетного мастера Ивана. Иван на Москве от буйства латынского отстал и, к делам веры вообще довольно равнодушный, нагородил и наобещал всего в Риме горы. Папа Павел, надеявшийся чрез Софью привлечь Московию если не к латынству, так хоть к унии, послал с ним Ивану портрет царевны и опасные грамоты для проезда московского посольства по царевну чрез католические земли.
В 1472 году необъятная Софья была вывезена в Московию. Её самолюбию не очень льстило, что она идёт за какого-то татарского данника. Но по дороге ей повсюду в Русской земле были устроены чудесные встречи. Псковичи, всё сильнее чувствовавшие тяжёлую длань государя московского, отвалили ей в дар целых пятьдесят рублей да фрязину Ивану за хлопоты десять рублей дали. За Софьей шёл на Москву легатос папский со своим латынским крыжом[34]. Прознав о том, Иван скорее запросил синклит свой боярский, как с этим легатосом и крыжом быть. И бояре порешили: как он идёт, так пусть себе и идёт — кака беда? Но митрополит Филипп, со свойственной святителям мудростию, заявил великому государю:
— Не можно тому быть никак! Не только в святый град не может латынщик поганый войти, но даже и приблизиться к нему ему не подобает. А ежели позволишь ему так учинить, то он в одни ворота — а я в другие. Недостойно нам того и слышать, не только видеть, потому что возлюбивший и похваливший чужую веру, тот своей вере поругался.
И народ московский возроптал. Поэтому у легатоса крыж его отняли и положили в сани, а когда он после бракосочетания захотел было иметь прю о вере, то против него Москва выставила начётчика Никиту-поповича. Никита сразу вогнал, понятно, гардинала в мыло, и тот, ссылаясь на то, что с ним нет нужных для при книг, от при отказался и с позором возвратился вспять. Ликованию отцов не было пределов:
— Вот как мы их!
Но когда гардинал рассказал в Риме утончённым тамошним князьям Церкви о том, как спорили с ним московские попы о вере, там на весь вечный город поднялся хохот.
Хотя единодержавие уже и раньше пустило цепкие корешки в Боровицкий холм над рекой Смородиной — так Москву-реку в старину звали — теперь оно укрепилось ещё более: великий князь становился чрез Софью как бы преемником императоров византийских. Он сразу так поднял голову, что всё пред ним пало ниц. Князья Рюриковой крови служили ему наравне с простыми смертными и славились полученным от него титулом бояр, дворецких или окольничих. Великий государь ввёл обряд целования руки в знак особой монаршей милости. Двор его становился всё пышнее. Это был уже владыка, законодавец, браздодер-жатель. Малейшее противоречие — и голова летела с плеч, какая горлатная шапка ни украшала бы её. Правда, новый тон этот великий князь иногда не выдерживал и в случае пожара, например, — его на Руси звали «Божьим батогом», — «гонял со многими боярскими детьми гасяще и размётывающе», но Софья удерживала его теперь от таких выступлений'.
Но всё это было только разбегом, началом великих дел.
Первое дело, которое надо было теперь Руси управить, были татары. Больше двухсот лет терзали и грабили они Русь, и вот она незаметно подошла к какому-то великому, смутному ещё кануну. Правда, татары сами из всех сил помогали ей: в Орде началось то же самое, что сгубило молодую Русь, борьба за власть державцев. От Золотой Орды уже отделился, с одной стороны, Крым, а с другой — Казань, а в Орде шла кровавая игра головами. Сперва татары жили в Кремле, чтобы наблюдать за великокняжеским двором, но не успела Софья прибыть на Русь, как сразу же — грекиня была не промах — явилась ей во сне Пречистая Богородица и повелела ей на месте ордынского подворья поставить святую церковь. Татары всяких небесных сил боялись, из Кремля выехали и вообще держали теперь себя на Москве тише воды, ниже травы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Книги похожие на "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Отзывы читателей о книге "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1", комментарии и мнения людей о произведении.