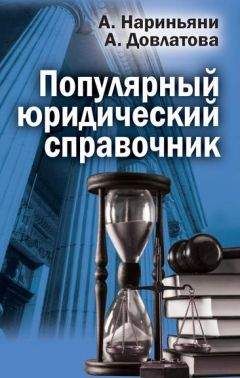Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать бесплатно онлайн.
Выдающийся судебный деятель и ученый-юрист, блестящий оратор и талантливый писатель-мемуарист, Анатолий Федорович Кони был одним из образованнейших людей своего времени.
Его теоретические работы по вопросам права и судебные речи без преувеличения можно отнести к высшим достижениям русской юридической мысли. В пятом томе изложены очерки Кони биографического характера.
В бумагах Гааза сохранилось несколько писем, очень характерных и для него, и для писавших. «Не имею защитника и сострадателя, кроме вас, — пишет ему в 1845 году
раскольник Евсеев, находящийся «далеко уже от царствующего града Москвы», — вы одни нам отец, вы брат, вы — друг человеков!» «Спасите, помогите, Федор Петрович! — восклицает в 1846 году Василий Метлин, — склоните сердце князя Щербатова (московский генерал-губернатор) ко мне, несчастному», объясняя, что, содержимый два года в остроге и год в монастыре, он уголовною палатою оставлен в подозрении «касательно духовности или лучше религии», по обвинению в принадлежности к «масонской фармазонской молоканской вере» и велено его «удалить к помещику для исправления»…
Иногда ходатайства Гааза бывали основаны и на обстоятельствах, не находившихся в связи с делом осужденного. В 1840 году он просит о помиловании 64-летнего старика Михайлова потому, что тот имеет попечение о малоумном Егорове, кормит его, лечит и т. д.; в 1842 году просит об освобождении из-под стражи трех «аманатчиков», следующих с Кавказа в Финляндию для водворения, ввиду сурового климата последней страны, а также потому, что один из них, Магомет-Ази-Оглы, проявил, помогая тюремному фельдшеру, большую понятливость, что вызвало со стороны его, Гааза, «привязанность к бедному молодому человеку».
Во многих случаях отказа комитета «заступиться» за тех, о ком он просил, Гааз шел дальше, обращался в Петербург к президенту попечительного о тюрьмах общества, а если и здесь не встречал сочувствия — шел еще выше… Отказы, «оставления без последствий», обращения к «законному порядку» — мало смущали его. Исчерпав все, он не отказывался от ходатайств на будущее время и не делал никаких ограничительных выводов для себя на это будущее. Наступал снова случай, где надо было, по его мнению, призывать милость к падшим и правосудие к невинным, и он снова, «ничтоже сумняся», шел туда, «куда звал голос сокровенный» и где так часто встречали его с насмешкой, нетерпением и недовольством. В мае 1839 года он собрал одиннадцать случаев неуваженных комитетом ходатайств своих и писал о них президенту общества, а не получив никакого ответа, послал в январе 1840 года просьбу об уважении их императору Николаю Павловичу. Она была передана в комиссию прошений, откуда, в июне 1840 года, была возвращена при оригинальном объявлении, что Гаазу следует обратиться куда следует, буде он находит сие основательным. «Нахожу ли основательным? — не без юмора пишет Гааз комитету, — конечно, нахожу, ибо самое мое действие показывает, что нахожу основательным, — иначе, не утруждал бы самых достопочтеннейших особ и, конечно, не осмелился бы доводить до высочайшего престола. Я столько убежден в основательности моего представления, что буде по одному из многочисленных из упомянутых в оном деле будет доказана моя несправедливость, то оставляю все другие. А затем, по наставлению комиссии прошений, прошу комитет подвергнуть сии дела внимательному рассмотрению». Комитет объявил ему, что так как в бумагах, им представленных, «изъясняются жалобы» на вице-президентов и на самый комитет, то комитет и не почитает себя вправе их рассматривать. Бедный Гааз увидел себя таким образом замкнутым в безвыходной cercle vicieux канцеляризма… Что он сделал далее — неизвестно. Быть может, прибег снова к средству писать за границу, как это он сделал по поводу прута… Он не был человеком, который останавливался в сознании своего бессилия пред бюрократической паутиною. К каким средствам прибегал он в решительных случаях, видно из рассказа И. А. Арсеньева, подтверждаемого и другими лицами, о посещении императором Николаем московского тюремного замка, причем государю был указан «доброжелателями» Гааза старик 70 лет, приговоренный к ссылке в Сибирь и задерживаемый им в течение долгого срока в Москве по дряхлости (по-видимому, это был мещанин Денис Королев, который был признан губернским правлением «худым и слабым, но к отправке способным»). «Что это значит?» — спросил государь Гааза, которого знал лично. Вместо ответа Федор Петрович стал на колени. Думая, что он просит таким своеобразным способом прощения за допущенное им послабление арестанту, государь сказал ему: «Полно! Я не сержусь, Федор Петрович, что это ты, — встань!» — «Не встану!» — решительно ответил Гааз. — «Да я не сержусь, говорю тебе… чего же тебе надо?» — «Государь, помилуйте старика, ему осталось немного жить, он дряхл и бессилен, ему очень тяжко будет идти в Сибирь. Помилуйте его! Я не встану, пока вы его не помилуете»… Государь задумался… «На твоей совести, Федор Петрович!» — сказал он, наконец, и изрек прощение. Тогда, счастливый и взволнованный, Гааз встал с колен.
VIIОзабочивали Федора Петровича и юридические нужды арестантов. Мы уже видели, что он предпринимал походы против бездушия современных ему законов, относившихся к условиям препровождения ссыльных. Они закончились блестящим успехом. Нельзя того же сказать про поход, имевший целью завоевать осужденным возможность исчерпать все в свою защиту до окончания тяжкого этапного пути.
Как видно из дел, хранящихся в архиве министерства юстиции, в начале тридцатых годов Гааз, очевидно, был поражен вопиющею жестокостью и нелогичностью тогдашнего закона о воспрещении подачи жалоб на решения уголовных палат со стороны присужденных к лишению всех прав состояния до исполнения над ними приговора и прибытия в Сибирь. 6 сентября 1832 г., заявляя тюремному комитету, что слова высочайше утвержденного, в 1828 году, мнения Государственного совета о разрешении жаловаться Сенату на приговоры уголовных палат лишь тогда, когда приносящие жалобу уже отправлены «в присужденное им место», толкуются московским губернским правлением в смысле прибытия их в ссылку, Гааз, не без мрачного юмора, писал: «Если думать, что ссыльные, после совершенного уже над ними телесного наказания и самого отправления их в Сибирь, на дороге туда не могут еще воспользоваться правом жалобы, но что должны ожидать последнего совершения их участи по прибытии в Сибирь, то для многих из них и не предвидится конца такого времени, ибо если московское губернское правление полагает, что совершение наказания над каким-либо ссыльным окончится с доставлением его, например, в Тобольск, то в Тобольске с той же мыслью могут ему сказать, что термин сей окончится в Нерчинске, куда он назначается в работы, а там скажут, что в работы он осужден срочно, например на 15 лет, и что во все сии годы наказание над ним продолжается, а не совершено еще; есть, однако, осужденные в работу на всю жизнь — следственно, тем и. невозможно бы бы\о воспользоваться представленным правом жалобы никогда». Поэтому, ссылаясь на свои надежды, что пересыльные арестанты, вступившие в Москву, не будут выходить из нее с такими обещаниями., какие им говорят в других местах: «Идите дальше, там можете просить!», Гааз просил комитет ходатайствовать о разъяснении закона 1828 года, хотя бы в том смысле, что право принесения жалобы начинается для осужденного со времени поступления его в ведение тобольского приказа о ссыльных. «Все места заключения, — пояснял он, — где содержатся назначаемые в ссылку в Сибирь, суть, так сказать, казармы, подведомственные тобольскому приказу, и, следственно, кажется справедливым, что в каждом губернском городе, где ссыльные проходят, они вправе воспользоваться дозволением подавать прошения на решения, их осудившие, в Правительствующий Сенат, и не справедливо ли прибавить к сему — наипаче в Москве?»
Князь Д. В. Голицын разделил взгляды доктора Гааза и просил директора департамента министерства юстиции представить мнение, изложенное Федором Петровичем, министру юстиции или посоветовать, как удобнее достигнуть разъяснения закона в желательном смысле. Директором был Павел Иванович Дегай, принадлежащий к довольно частым у нас представителям душевной раздвоенности, Умный и очень образованный юрист, с просвещенными и широкими научными взглядами и философским направлением, Дегай в отношении русской жизни был узким формалистом и буквоедом, умевшим систематически излагать действующие законы гладким канцелярским языком, не вдаваясь в «обманчивое непостоянство самопроизвольных толкований». Подробно рассмотрев предмет сообщения князя Голицына и «поставляя себе в особенную честь повергнуть свои соображения на благоусмотрение его сиятельства», Дегай нашел, что уже в 1721, 1784, 1796 —1809 годах «виды правительства были изложены с очевидною точностью: уголовные дела о простолюдинах по предметам важным, соединенным с лишением подсудимого прав, без всякой апелляции, переходя по ревизии из одной инстанции в другую, состоя под наблюдением губернских прокуроров и конфирмуясь правителями губерний, открывали для лиц низшего в обществе состояния достаточные средства к ограждению их прав и к защите в случае невинности. Затем, рассмотрение дел сего рода в верховном судилище могло только служить проволочке судопроизводства, к продолжительной ненаказанности преступника и к обременению Правительствующего Сената. В 1823 году даровано людям низшего состояния не право апелляции, но право приносить жалобы о безвинном их наказании по делам уголовным Правительствующему Сенату, и то под страхом телесного наказания, в случае неправильности таковых жалоб».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Книги похожие на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера", комментарии и мнения людей о произведении.