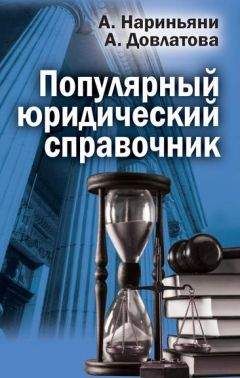Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать бесплатно онлайн.
Выдающийся судебный деятель и ученый-юрист, блестящий оратор и талантливый писатель-мемуарист, Анатолий Федорович Кони был одним из образованнейших людей своего времени.
Его теоретические работы по вопросам права и судебные речи без преувеличения можно отнести к высшим достижениям русской юридической мысли. В пятом томе изложены очерки Кони биографического характера.
Мы часто виделись — и, в годы тяжелых служебных переживаний с 1878 года до начала последнего десятилетия прошлого века, я нередко находил под его семейным кровом уют и временное забвение житейских горестей. В этот именно период у Андреевского проявилось стремление к поэтическому творчеству, и он стал писать стихи, делясь ими со мной и требуя критического к ним отношения. Я находил и нахожу до сих пор, что его произведения по теплоте и искренности чувства, по тонкому изображению настроений, навеваемых картинами природы, по богатству рифм, по красоте образов и по устранению излишнего многословия давали ему право занять видное место среди молодых поэтов этого времени. Но он сам относился к себе недоверчиво, хотя писал стихи сразу — «aus einem Guss», без поправок и переделок. Я помню, как однажды при разговоре с посетившим его знатоком и любителем Музыки, возник вопрос о том, что хотел сказать Шуман своим знаменитым «Warum?» и какой смысл может быть вложен в ответ «Darum» [28]… «Ответ ясен», — сказал задумчиво Андреевский и, взяв карандаш, меньше чем в десять минут написал следующее стихотворение, не увидевшее печати, но оставшееся у меня в памяти:
«Затем, что счастлив только тот,
Кто не изведал жизни гнет,
Не поселил в ком злобный гений
Больных и горестных сомнений
И кто простил судьбу за то,
Что нам неведомо ничто
Ни в море жизни необъятной,
Ни в тайне смерти непонятной».
Чтобы преодолеть его недоверие к себе, я показал некоторые из его стихотворений в редакции «Вестника Европы», с которою был особенно близок. Их встретили с одобрением и сочувствием, и на страницах журнала появились: «Мрак», «Обручение» и «Довольно» на тургеневскую тему, перевод «Ворона» Эдгара По с очень интересным предисловием о технике этого удивительного поэта и еще несколько переводов. Наша критика, почти всегда недоверчивая и больше склонная глумлением и насмешками обрезывать крылья начинающим поэтам, встретила мелкими придирками и стихи Андреевского, но потом устами Арсеньева, Чуйко и Боборыкина сделала ему справедливую оценку.
Я стал убеждать Андреевского издать все им написанное отдельной книгой. Но его снова начали посещать сомнения… Тогда, в конце 1885 года, я купил тетрадь, в форме книги с белыми листами, и просил М. М. Стасюлевича отдать напечатать на первом листке: «С. А. Андреевский. Стихотворения. 1878–1885 гг. Петербург» — и в Новый год послал эту книжку Андреевскому, шутливо поздравляя его с появлением ее в ответ. Эта шутка сломила его нерешительность. Стихотворения появились в двух изданиях, 1886 и 1898 годов, встреченных критикой благосклонно. Книжка первого издания тотчас по выходе была мне прислана автором с посвящением, в котором я был шутливо назван «отцом его музы».
Для свидетелей тех перемен в настроениях Андреевского, о которых я говорил, касаясь его юности, книга его стихов служит отголоском и выражением вновь овладевшего его душой безотрадного взгляда на жизнь, В ней слышится не только свойственная ему отчужденность от волновавших многих из его современников общественных вопросов, но и глубокий пессимизм, как будто то светлое настроение, которым любовь украсила его молодые годы, сменилось упорным разочарованием и мыслью о тщете жизни, ввиду грозного призрака смерти, за которою наступает роковой мрак. Здесь не было никакого влияния Шопенгауэра. Новый строй безнадежных мыслей автора возник самостоятельно и, несмотря на внешнее спокойствие и нередкую живость повадки Андреевского, обнаруживался, как только он оставался наедине с собою и отдавался своим поэтическим домыслам. Это сказывается и в его оригинальных произведениях, и в выборе иностранных произведений для переводов. Отдаваясь воспоминаниям, он находил, что в жизни «все радости превратны и кратковременны мечты», что минувшая любовь и отжившие желанья — обманчивый бред, что
«Нельзя в душе уврачевать ее минувшие печали,
Когда годами их печать на сердце слезы выжигали».
Он обращался к «чистому образу виденья любимого» с просьбою не слетать, светить над ним и не будить усталое сердце от сна нерушимого, дав ему успокоиться без мук. Одна природа его несколько утешала, и ей посвящено много красивых страниц, но все отравлено мыслью о старости, угрюмо грозящей издали, среди ровных дней, каждый из которых поет над человеком панихиду и говорит о смерти, потому что
«Потерян ключ от милых бредней,
И вечный мрак мелькает перед ним,
И знанье злит, а в сердце веры нет,
Когда ко снам заоблачным утрачены порывы
И двери вечности пред ним заперты»
и остается
«Земля, одна земля!
И по краям обрывы,
И нет ни выхода
Ни цели для мечты»
Говоря, что в душе — пустыня, в сердце — холод и нынче скучно, как вчера, и что его давит хандра, тяжеловесная, как молот, поэт просит:
«Дайте мне, люди, побыть нелюдимым,
Дайте уняться неведомой боли,
Камнем тоска легла некрушимым.
Эх, умереть, разрыдаться бы, что ли!»
Тем же разочарованием в минувших снах и глубоким пессимизмом проникнуто одно из лучших его больших стихотворений— «Мрак», кончающееся словами «темнокрылого гения» поэту:
«Ты все излил, чем страждет грудь поэта,
А, может статься, и моя.
Я — вечный спутник бытия,
Я — голос тьмы: не знаю света…»
Это же настроение привело Андреевского к очень удачному переложению исполненного тоски и печали тургеневского «Довольно» в стихотворную форму.
Грустный строй мыслей не помешал Андреевскому отдаваться адвокатской деятельности: вдумчиво — к причинам людских несчастий, приводящих их на скамью подсудимых, и отзывчиво — на их душевные переживания. Поставив себе задачей осуществление афоризма tout comprendre — tout pardonner [29], он занял среди защитников особое место, отмежевав от области строгой логики и анализа юридических понятий область чувства. В то время, когда Спасович в своих защитительных речах блистал разбором улик и доказательств, научными справками и оценкой состава преступлений по выработанным на суде данным, доказывая, что в деянии подсудимого его не заключается, когда то же красноречиво, но в более общих чертах, предпринимали князь Урусов и Герард и когда Потехин вносил в свою задачу бытовые и экономические выводы; Андреевский почти не касался обычного материала судебного следствия — улик и доказательств — или касался его очень поверхностно, но предметом своей речи избирал личность подсудимого, его житейскую обстановку и условия окружавшей его среды, как бы говоря присяжным заседателям: «Не стройте вашего решения на доказанности его поступка, а загляните в его душу, и в то, что неотвратимо вызвало подсудимого на его образ действий». К институту присяжных он относился с величайшим уважением, совершенно основательно видя в нем одно из больших общественных завоеваний. Сторонник суда присяжных, как выразителя чувства, вызываемого разбираемым делом, он восхищался им за то именно, в чем его упрекали, по поводу некоторых оправдательных приговоров, озлобленные противники в печати. «Суд улицы», по их ядовитому выражению, был в глазах Андреевского судом людей, свободных от профессиональной рутины и не связанных безжизненными нормами закона, но вносящих в свое решение разносторонний житейский опыт и голос сердца. Поэтому в очень оригинальном докладе о будущих задачах суда он со скорбью отмечал сокращение компетенции присяжных в пользу лицемерного суда с сословными представителями, в сущности, представляющего простой коронный суд со всей его непригодностью для суждения о важнейших преступлениях. По его горячему убеждению, выразившемуся во всех его адвокатских выступлениях, защитник должен говорить с представителями общественной совести не как юрист, а как писатель говорит с публикой. В свою защиту, которую он сам называл «литературой на ходу», он избегал вносить свой пессимистический взгляд на жизнь, но сознавал, что надо искать примирения с темными сторонами жизни не в суровом подчас начале справедливости, а в чувстве сострадания. К последнему взывал он, сводя свои речи, в сущности, к такому обращению к присяжным: «Вам говорят — будьте справедливы, но я говорю: будьте милосердны; вам говорят — осудите злое дело и деятеля, а я вас прошу: рассмотрите, что привело к этому делу, и простите деятеля». Материалом для такого рассмотрения и побуждением для сострадания являлась художественность картин и образов, которые он умел рисовать мастерски: «Когда все, — воскликнул он в одной из своих речей, — против одного, — надо попробовать за него заступиться!». В этом заступничестве он нередко изображал своих подзащитных такими, какими их личность его интересует и какими он хотел бы их видеть как художник и человек, память которого полна созданиями великих писателей. Отсюда — его частые ссылки на Шекспира и Данте, Лермонтова и Толстого, Тургенева и Достоевского и обширные цитаты из них, доходящие даже до куплетов из Фимушки и Фомушки («Новь»):
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Книги похожие на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера", комментарии и мнения людей о произведении.