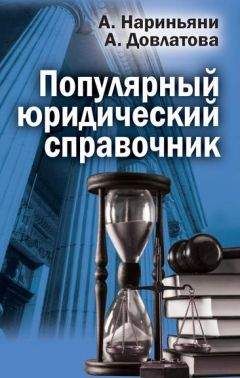Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать бесплатно онлайн.
Выдающийся судебный деятель и ученый-юрист, блестящий оратор и талантливый писатель-мемуарист, Анатолий Федорович Кони был одним из образованнейших людей своего времени.
Его теоретические работы по вопросам права и судебные речи без преувеличения можно отнести к высшим достижениям русской юридической мысли. В пятом томе изложены очерки Кони биографического характера.
Значительная часть многих речей Спасовича посвящена была вопросам психофизиологии и содержала множество тонких и обличающих обширную эрудицию замечаний и характеристик из области уголовной физиологии и психологии. Находя, что духовная культура выражается, с одной стороны, в выработке и преобладании мозга и нервной системы, а с другой — в возрастании идеомоторных процессов, в возможно большем расстоянии между внешним раздражением и его неизмеримо далекими результатами, причем каждый результат является уже не продуктом первоначального раздражения, а ответом, данным всем характером, всеми пережитыми опытами и всеми привычками мысли, чувств и деятельности, он с особым вниманием исследовал чувствительный, мыслительный и волевой процессы в человеке. «Идея безжизненна в своем холодном состоянии, — говорил он, — ей нужно согреться чувством, чтобы перейти в живое дело». Сделанные им (в особенности в деле Островлевой) анализы душевных недугов, как болезней мышления, и разбор их отличия от болезней чувств и воли дали ему вполне заслуженное право быть избранным в 1885 году в члены психиатрического общества при императорской Военно-медицинской академии. Свобода воли, обусловливающая собою вменяемость, по мнению Спасовича, выражается в действии трех главных мотивов человеческих деяний — страсти, ума (расчета) и нравственного чувства (совести), — и наказание назначается за то, что один из двух первых мотивов оказался сильнее третьего, за то, что страсть одолела ум или ум наложил молчание на протестующую совесть. Критерий этот неприложим, однако, к душевнобольным, и меч правосудия опускается там, где над человеком тяготеет проклятие природы.
Живая, энергическая речь Спасовича, одинаково сильная в синтезе и в анализе, никогда не упускающая из виду подсудимого, как «брата по человечеству», проникнутая разумным снисхождением к увлечениям молодого возраста, однако, без льстивого попустительства, всегда производила впечатление на присяжных и привлекла к себе особое внимание суда. Если вдумчивость в дело, изучение его во всех мельчайших подробностях, отсутствие напускного пафоса и простота речи, в связи с глубиною и богатством ее содержания, должны служить образцом и примером для лиц, посвящающих себя адвокатуре, то такой образец дан в самых широких размерах судебною деятельностью Спасовича. Нужно ли говорить, затем, о его роли в упрочении и энергичном оживлении того кружка юристов, которые собирались у него на квартире за разработкой правовых вопросов, — кружка, послужившего ядром Петербургского юридического общества, того общества, в стенах которого столько раз раздавалось призывное слово Спасовича к правильному устроению правосудия и к устроению суда в духе Судебных уставов.
Наконец, нельзя забыть всех художественных наслаждений и отрадных минут, вынесенных каждым из участников собраний Шекспировского кружка, куда приходилось уходить от тяжелых впечатлений жизни для того, чтобы отдохнуть и забыться в совместной работе над исследованием вечных начал художественной правды и красоты., Члены этого кружка помнят до сих пор многие из создавшихся, благодаря энергии и личному участию Спасовича, докладов, и мне невольно рисуются те вечера, когда почти сорок лет назад мы переносили с ним наши обычные состязания и на Шекспировскую почву, избрав предметом их «Макбета» и посвятив этой трагедии ряд рефератов и контр-рефератов.
Вся деятельность этих кружков — и правовая, и литературная — оживлялась и согревалась им, который в этом тонком механизме свободного мышления был маховым колесом, приводившем все в движение. Не останавливаясь перед хлопотами, просьбами и трудами, он не давал раз-: виться в этих кружках столь обычным у нас лени и апатии. А когда эти последние все-таки грозили забраться в среду участников, Спасович, несмотря на многочисленные занятия и на преклонные годы, с тревожной настойчивостью «собирал», выражаясь словами великого Петра, «рассыпанную храмину», и делался в ней снова деятель-: ной силой и связующим ее центром.
Такие воспоминания заставляют искренне сожалеть о том, что на тусклом петербургском горизонте навсегда исчез своеобразный духовный и физический облик Спасовича и что больше не приходится знать, что в одном из уголков суетного и холодного города почти по каждому общественному или научному вопросу бьется, как пульс, отзывчивая и чуткая душа этого человека.
Не следует ли, однако, но примеру античного Рима, сказать по адресу Спасовича: «Carmen famosum?» [16] Недаром же современному перерождению римского «позорящего стиха» в клевету и диффамацию он посвятил несколько научных трудов. Эту задачу в свое время могли бы облегчить его многочисленные неприятели, ибо — к чему скрывать? — у него их было большое количество. Оно и не мудрено, так как он был всегда самим собою, чуждым слепого рабства перед чужою мыслью, независимо относившимся ко всякого рода инвентарям партийных понятий и обязательному трафарету предустановленных взглядов. Поэтому, например, когда, считая себя поляком по происхождению, вкусам и традициям и прямодушно об этом заявляя всюду, он увлекался своею любовью к прошлому Польши, его тотчас же спешили упрекнуть в том, что он отчуждается от всего русского. При этом нередко прибавлялось: «Не прав ли был Катков, когда, характеризуя «ораторов Петербургской судебной палаты» по Нечаевскому делу, он, со свойственной ему силой выражения, говорил о том, что только один из них — Спасович — поднялся на вызываемую важностью дела высоту и окинул с нее проницательным взглядом условия и среду, из которых вышли участники заговора, и прибавлял с горечью: «Но он говорил, как чужой». Однако, вглядевшись в жизнь Спасовича в России, с этим эпитетом нельзя согласиться. Не чужой русскому обществу был тот, кто сеял семена здоровой науки и критики, кто принял такое живое и сердечное участие в деле развития судебных приемов и идеалов, — не чужой был тот, кто заставлял своим живым словом биться сердца слушателей, кто неустанно, среди недоверия и глухих обвинений, употреблял все доступные ему духовные средства, чтобы развить, вместо отчуждения, взаимное понимание и уважение в двух родственных славянских племенах, которым суждено в будущем идти к общечеловеческим целям не только рука с рукой, но и душа с душою…
Наконец, чужой России разве тот, кто оставил одиннадцать томов своих печатных трудов, изложенных на русском языке, по самым разнообразным отраслям знания?. Известно стихотворение Мицкевича, в котором изображены двое юношей под одним плащом, соединенных между собою связью сердца. Поэт уподобляет их двум скалам, склоненным вершинами друг к другу, меж тем как снизу их навеки разделил поток % Когда-то казалось, что это так и есть, но в последнее время не явились ли признаки того, что снег и лед вершин, подобно альпийским ледникам, спускаются вниз, и не только единичные люди, но и целые слои населения охватываются одним чувством на почве просвещения и справедливости во взаимной оценке. Это выразилось ясно в русско-польских чествованиях столетних юбилеев Пушкина и Мицкевича. Надо желать, чтобы как можно скорее сделалось ясным, что в великолепном пророчестве польского поэта одно лишь место было ошибочно: поток высох, и обе скалы соединились, сохранив за собой все свойства своей природы, но будучи связаны прочным кварцем взаимного уважения и золотой рудой любви к ближнему. Для этого не мало и плодотворно поработал Спасович.
Его упрекали в том, что он всегда разбрасывался, никогда не отдаваясь всецело одному делу — и в мыслях и в действиях был непоседой, не создав кропотливым и усидчивым трудом чего-либо одного, большого и цельного. Да, пожалуй, это верно… Но довольно в жизни нашей узких специалистов, достаточно исключительной принадлежности ко всяким официальным и неофициальным ведомствам, накладывающей односторонний отпечаток на всю личность человека! Было нечто привлекательное в этом Протее — Спасовиче, когда он искал новых впечатлений и воплощал их в оригинальные мысли, где бы его ни приходилось встретить: в театре, на выставке картин, на публичной лекции, на диспуте, в суде, в редакции журнала, на товарищеском обеде или на похоронах хорошего человека. Нельзя было не ценить эту его отзывчивость, эти черты его личности, потому что каждый его шаг в разнообразных сферах духовной жизни был проникнут внутренним смыслом и всегда, так или иначе, направлен к пробуждению в окружающих тех общих идей и представлений, в которых сказываются лучшие стороны людского духа и без которых жизнь образованного человека была бы тяжелым бременем. Невольно вспоминается то уже приведенное выше место обвинительной речи Владимира Даниловича но делу о поджоге мельницы Овсянникова, где на упрек защиты, что он строит все свои выводы на одних косвенных уликах, на чертах и черточках, он ответил: «Ну, да! Черты и черточки! Но, ведь, из них складываются очертания, а из очертаний буквы, а из букв слоги и из слогов возникает слово, — и это слово: — поджог!». Так и про него его противникам можно сказать: «Ну, да! Вы правы, все у него были черты и черточки, но из них складывались понятия, а из понятий — целое представление о человеке, и оно было представлением о служителе общественного развития».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Книги похожие на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера", комментарии и мнения людей о произведении.