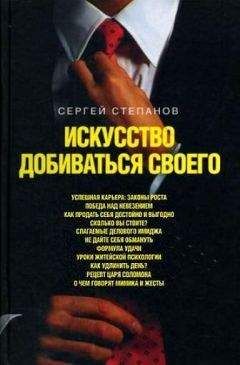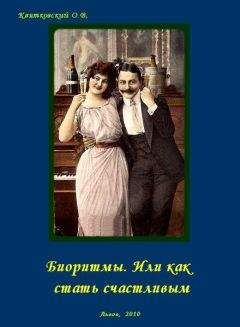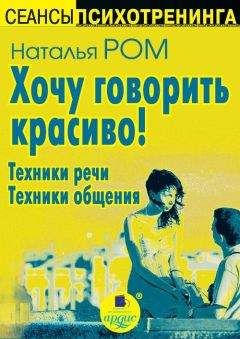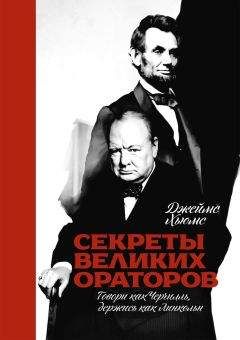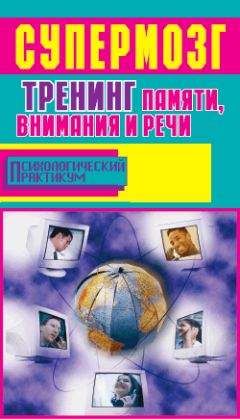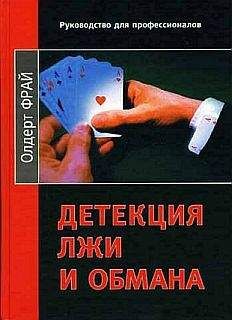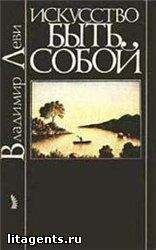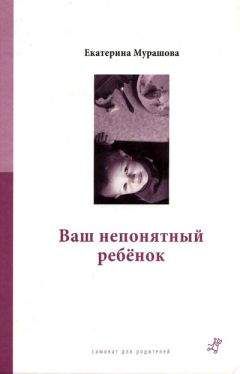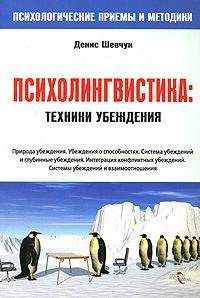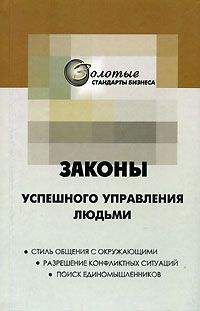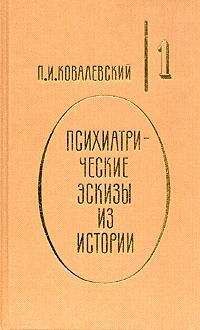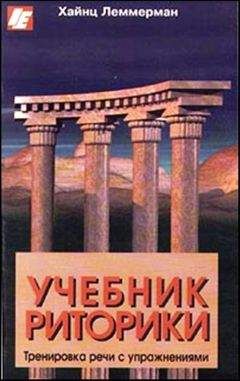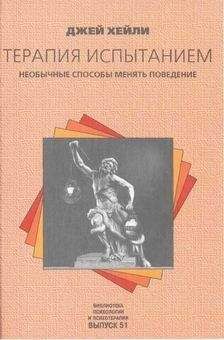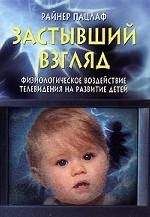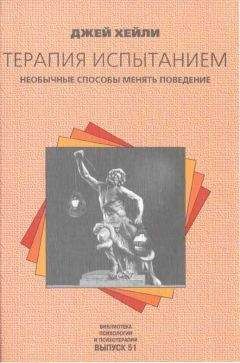Петр Пороховщихов - Искусство речи на суде

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Искусство речи на суде"
Описание и краткое содержание "Искусство речи на суде" читать бесплатно онлайн.
П. Сергеич — псевдоним известного русского юриста Петра Сергеевича Пороховщихова. О чистоте и точности слога, простоте речи, о «цветах красноречия», риторических оборотах, поисках истины размышляет автор этой книги — содержательной, богатой наблюдениями и примерами. Впервые она была издана в 1910 году; переиздание в 1960 году имело большой успех. Многие рекомендации автора по методике построения судебной речи полезны и в наши дни.
Es kann nicht sein! Kann nicht sein! Kann nicht sein!
Он повторяет три раза одни и те же простые слова, но сколько в них глубокого значения, какой разнообразный смысл! "Не может быть!" – это негодующий протест; "Нет, быть не может…" – это испуганное, отравленное подозрением, мучительное сомнение… "Не может быть!!" – это вопль отчаяния, вырывающийся у человека, перед которым открылась нравственная бездна… Мгновенное крушение целого миросозерцания, утрата веры в людей – страшная трагедия в жизни человека, и, однако, все существо ее можно выразить одним изменением голоса.
2. Живой голос оратора раздается среди живой аудитории. Скульптор, художник, зодчий обращают свое произведение к людям в спокойном созерцательном настроении; мы подходим a froid *(180) к картине или статуе; напротив того, в судебной зале люди, окружающие оратора, ни единой минуты не находятся в полном душевном равновесии; они все время переходят от одного настроения или чувства к другому; среда все время несколько нагрета и, следовательно, восприимчива к дальнейшему нагреванию. Возьмем старое сравнение: бросьте зерно на засохшую твердую почву, оно погибнет; бросьте его во влажный чернозем, земля обнимет его своим теплом, всеми своими живыми силами пойдет навстречу его живому соку. Вы случайно затронули мысль, которая вертелась в голове одного из присяжных,– и вы видите, как быстрое умственное движение отразилось на его лице. Но мы говорим не о случайностях, мы говорим о расчетливом уменье, об искусстве. Опытный оратор заранее знает мысли и настроение своих слушателей; он ведет свою речь в осмотрительном соответствии с этим настроением; он крайне сдержан до той минуты, пока не почувствует, что овладел ими и подчинил их себе. Но, как только явилось у него это сознание, он уже распоряжается их чувствами как хочет и без труда вызывает вокруг себя то настроение, которое ему в данную минуту нужно. Он то нагревает, то охлаждает воздух; его семена падают на почву не только с искусственным орошением, но и с искусственной теплотой. Мудрено ли, что и посев всходит с волшебной пышностью и быстротой. Повторяю, вы не случайно затронули здесь одного из многих слушателей ваших, вы с сознательным расчетом увлекаете за собой всю залу; вы заражаете их своим чувством, они заражают друг друга; все они, зрители, судьи, присяжные, сливаются в единую живую лиру, струны которой звенят в ответ на каждый ваш удар… Они вами живут: как же можно говорить к ним без успеха?
3. Среди живой аудитории идет живая драма процесса. Повесть, роман есть вымысел писателя; судебная речь есть поэма, созданная из живых страданий и слез. Правда, писатель часто берет свою тему из действительной жизни; но настоящая драма уже кончилась, когда он взялся за перо; он – наблюдатель и рассказчик. Пусть в своем воображении он выстрадал и пережил страдания своих героев, пусть даже описывает драму, в которой сам был действующим лицом,– он говорит о том, что миновало, чего нет, и его рассказ может вызвать во всяком случае лишь иллюзию, лишь условное, отраженное страдание. Но говорит оратор на суде – и перед ним или рядом с ним, в лице подсудимого, его жертвы, их близких и родных, дрожит, терзается, стонет сама жизнь со всеми своими порывами, страстями, ужасом смерти, страхом возмездия, терзаниями совести… Нужно ли пояснять, что, видя перед собой эти страдания, люди становятся несравненно более восприимчивы ко всякому воздействию на их чувства, другими словами, что в этих условиях больший успех достигается меньшими средствами? Рядовой обвинитель или защитник на суде может сильнее волновать своих слушателей, чем талантливый чтец или актер на эстраде.
Актер властвует над своими зрителями: они вместе с ним переживают все драматическое представление; но занавес падает, драма кончается и исчезает, как сон. Судебный оратор – актер в действительной драме; суд – только один из ее грозных актов, и не последний; судьи, присяжные – участники той же драмы, и они до последней минуты не знают, к чему она их приведет, окажется ли комедией или трагедией. Они пришли на суд не для отдыха или изысканных эстетических трепетаний; не развлечения хотят они от оратора, они ждут от него помощи в тяжелой борьбе с самими собою, они ловят в его словах ответа на мучительные искания их совести, то блуждающей в беспросветном лабиринте, то вдруг застывшей в нравственном тупике. Я не могу распространяться об этом; это отвлекло бы нас в сторону. Напомню только одно дело. В 1901 году в Сенате рассматривалось прошение Александра Тальма, присужденного пять лет тому назад к каторжным работам по обвинению в убийстве генеральши Болдыревой. Как известно, Тальма просил о возобновлении дела ввиду приговора по делу Ивана и Александра Карповых, судившихся за то же убийство и признанных виновными в укрывательстве. Представителем Александра Тальма был Н. П. Карабчевский. Заканчивая свою речь, он сказал: "Господа сенаторы! Из всех ужасов, присущих нашей мысли и нашему воображению, самый большой ужас – быть заживо погребенным. Этот ужас здесь налицо. Правосудие справило печальную тризну в этом деле. Тальма похоронен, но он жив. Он стучится в крышку своего гроба, ее надо открыть!"
4. Одним из привлекательнейших украшений речи является живое сотрудничество других участников процесса. Ни одно большое дело не обходится без так называемых incidents d'audience; это неожиданные, непредвиденные случайности, возникающие сами собою по самым разнообразным поводам. Но я разумею не эти incidents в тесном смысле, а отношение к ним или к предшествовавшим событиям со стороны свидетелей, эксперта, подсудимого, потерпевшего или противника оратора.
В деле Ольги Штейн каждый свидетель приносил новые неожиданные краски к услугам обвинителя.
У старого военного типографа она выманила под предлогом залога 9 тысяч рублей. На вопрос председателя, откуда были у него эти деньги, свидетель сказал: "Я 29 лет служил в Восточной Сибири и в Средней Азии; я по два года бывал в командировках и за 29 лет скопил 10 тысяч рублей". Разве трудно было вызвать у присяжных живое представление о том, сколько тысяч верст изъездил молодой чиновник по тайге и по степи, пока к седым волосам накопил скромную сумму на черный день? А затем отчего бы не напомнить, что достояние, сколоченное в 29 лет, пропало меньше чем в 29 часов?
Скромный писец, у которого Ольга Штейн постепенно выманила 3 тысячи рублей, говорил спокойно и выражался очень сдержанно; объясняя свою доверчивость и уступчивость, он сказал присяжным: "Столько грусти, столько трагизма было в ее словах, что я не мог устоять перед ее просьбами". Тот же скромный конторщик показал, что подсудимая имела собственный особняк на Васильевском острове, и, увлекаясь рассказом, он говорил: "Это был чудный дом, маленький дворец с очаровательным зимним садом, это сказка была какая-то…" Вот готовый повод для импровизации.
Свидетель Свешников показал, что, когда, доведенный до отчаяния разорением своей семьи, он высказал одному высокому сановнику намерение подать жалобу прокурорской власти, собеседник стал умолять его не делать этого, чтобы не погубить грабительницу. "Она святая, она золотая",твердил влюбленный старик.
Святая! Золотая! Это женщина, отбиравшая десятки тысяч у состоятельных людей и последние гроши у бедняков!
Все эти отрывки должны были войти в речь обвинителя; к сожалению, он не захотел воспользоваться этими блестками.
В губернском городе судился учитель пения за покушение на убийство жены. Это был мелкий деспот, жестоко издевавшийся над любящей, трудящейся, безупречной супругой и матерью; насколько жалким представлялся он в своем себялюбии и самомнении, настолько привлекательна была она своей простотой, искренностью. Муж стрелял в нее сзади, сделал четыре выстрела и всадил ей одну пулю в спину, другую в живот. Обвинитель заранее рассчитывал на то негодование, которое рассказ этой мученицы произведет на присяжных. Когда ее вызвали к допросу и спросили, что она может показать, она сказала: "Я виновата перед мужем, муж виноват передо мной – я его простила и ничего показывать не желаю". Я виновата – и я простила. Сколько бы ни думал обвинитель, как бы ни искал сильных и новых эффектов,– такого эффекта он никогда бы не нашел. Надо быть Достоевским или Толстым, чтобы сочинить такое противоречие. Что же вышло? Самое прекрасное, самое возвышенное место в речи прокурора принадлежало не ему, а его сотруднице – полуграмотной мещанке.
Свидетельница говорит со свойственной крестьянам медлительностью: "Был день рождения дочери: восемнадцать лет ей минуло; я собралась в свою церкву и она в свою церкву. Я говорю: поди, возьми просвирку за здравие; она пошла, подала просвирку за здравие. Пришла я из церкви; ее нет. Я ждать, ждать, ждать, ждать. Нет ее; а спросить людей совестно. И на ночь не пришла, а она никогда на ночь нигде не оставалась. На утро приходит ко мне баба, спрашивает: где твоя Ольга? – Не знаю.– Она, говорит, зарезана; у третьей будки лежит".
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство речи на суде"
Книги похожие на "Искусство речи на суде" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петр Пороховщихов - Искусство речи на суде"
Отзывы читателей о книге "Искусство речи на суде", комментарии и мнения людей о произведении.