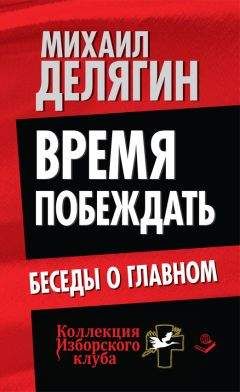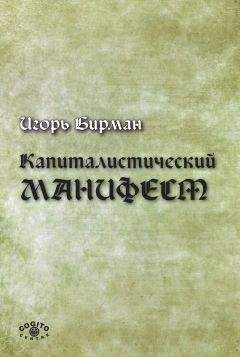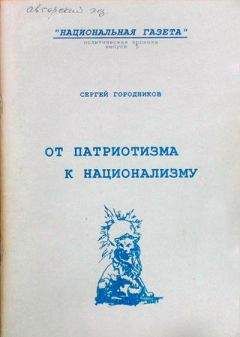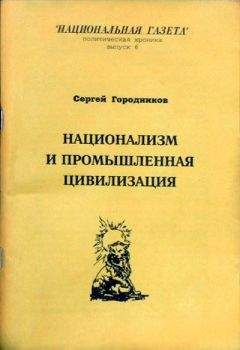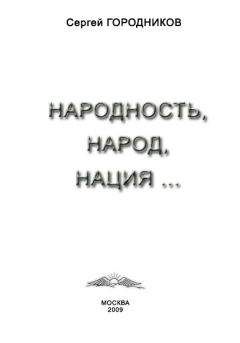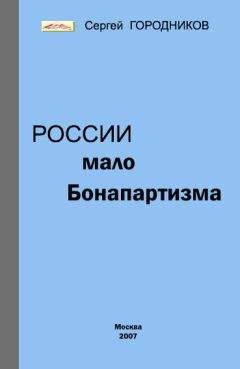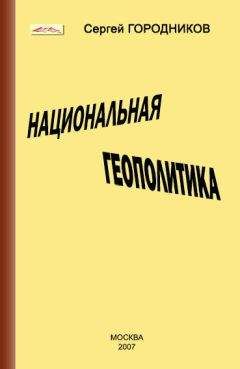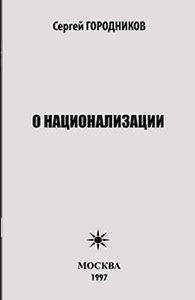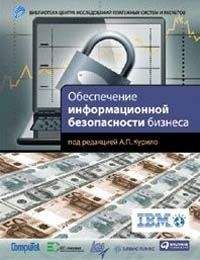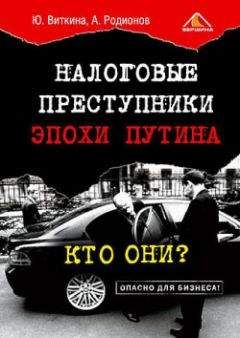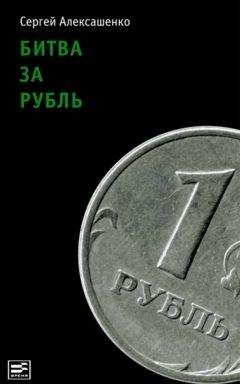Мартин Гилман - Дефолт, которого могло не быть
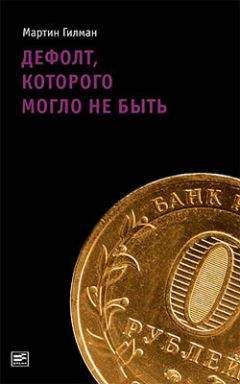
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Дефолт, которого могло не быть"
Описание и краткое содержание "Дефолт, которого могло не быть" читать бесплатно онлайн.
Этой книги о дефолте, потрясшем страну в 1998 году, ждали в России (да и не только в России) ровно десять лет. Мартин Гилман – глава представительства Международного валютного фонда в Москве (1996 – 2002) – пытался написать и издать ее пятью годами раньше, но тогда МВФ публикацию своему чиновнику запретил. Теперь Гилман в МВФ не служит. Три цитаты из книги. «Полученный в России результат можно смело считать самой выгодной сделкой века». «Может возникнуть вопрос, не написана ли эта книга с тем, чтобы преподнести аккуратно подправленную версию событий и тем самым спасти доброе имя МВФ. Уверяю, у меня не было подобных намерений». «На Западе в последние годы многие увлекались игрой в дутые финансовые схемы, и остается только надеяться, что россияне сохранят привитый кризисом 1998 года консерватизм. Но как долго эффект этой прививки будет действовать, мы пока не знаем».
Уже знаем.
Особенности переходного периода в России после развала Советского Союза, как пишет профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в предисловии к английскому изданию книги Егора Гайдара «Дни поражений и побед», были результатом того исторического факта, что Россия в конце декабря 1991 года «не была суверенным государством, поскольку не имела суверенных границ, суверенной валюты, суверенной армии, ее государственные институты были слабы, а их функции не очерчены». Эту мысль Макфола об условиях, в которых начинался в России переходный период, стоит процитировать более подробно.
«…То, что оставила советская эпоха в наследство, заставляло начинать даже не с чистого листа. Все было еще хуже. Российское руководство должно было иметь дело с проблемами империи, с необходимостью провести экономическую реформу, с нуждой в политических переменах, а многие практики и институты советской системы в это время продолжали действовать. Экономическая жизнь, основанная не на рынке, а на административной власти, гигантсткий ВПК, всепроникающая коррупция государственных институтов и огромная теневая экономика, отсутствие правовой системы и слабая трудовая дисциплина – это только часть того наследства, которое мешало проведению рыночной реформы. Тени прошлого и в дальнейшем нависали над постсоветской Россией, потому что российские революционеры в конце концов воздержались от насилия при достижении своих целей в трансформации политики, экономики и государства. Это стратегическое решение сохранило многие советские институты и организации, созданные и вскормленные этими институтами... Советский режим в целом рухнул, но элементы, его составлявшие, оставались на месте.
Российские реформаторы должны были также учитывать баланс между политическими группами, поддерживавшими реформу и находившимися в оппозиции к ней. В отличие от восточноевропейских стран, в России 1991 года не было консенсуса относительно необходимости проведения рыночной реформы и демократизации. Напротив, российские элиты были поляризованы».
Гайдар, в свою очередь, пишет: «Правительство пассивно наблюдает за финансовой разрухой, совершенно не отдавая себе отчета в том, что происходящее чревато бурными социальными катаклизмами, крушением режима. Так было во Франции накануне Великой революции, в России – перед 1917 годом, в Китае – накануне краха Гоминьдана».
Вторая русская революция
Трудности, возникшие в процессе проводившихся при Ельцине реформ, принято объяснять ошибками реформаторов. Но существует и другая точка зрения, согласно которой в России в конце XX века случилась вторая, и на сей раз относительно бескровная, революция. Этот взгляд развили в своей вышедшей в 2001 году книге Владимир Мау и Ирина Стародубровская, и они же убедительно раскрыли характер и экономические особенности этой революции. С их точки зрения, трудности и непоследовательность реформ естественны и неизбежны из-за того, что во время революции государство слабо, и иначе быть не может: общество раздроблено, меняются права собственности, интересы различных социальных групп эволюционируют. Это, на мой взгляд, убедительный довод в пользу того, что проблемы, с которыми Россия столкнулась в переходный период, были по большей части неизбежны.
В свою очередь Андерс Аслунд, тоже проанализировавший ситуацию в России с этой точки зрения, писал, что «во время революции старые институты перестают функционировать. В этот недолгий критический момент у политических лидеров свобода действий гораздо больше, чем в обычные времена. Но зато рычаги управления у них в распоряжении только самые примитивные» [21] .
Если бы этот революционный характер падения коммунизма был уже тогда по достоинству оценен западными наблюдателями, то, возможно, все последовавшие кризисы и крутые повороты в российской постсоветской политике не ошеломили бы нас так сильно. Но всех нас тогда словно одолела коллективная близорукость. Не разглядев революцию, мы ошибочно полагали, что никаких чрезвычайных мер для грядущей российской реформы не потребуется, что справиться с ситуацией можно будет обычными средствами за несколько недолгих лет.
Вообще, в 1990-х на Западе бытовало мнение, что Россия находилась – или должна была бы находиться – в процессе «перехода к демократии и рыночному обществу». При этом «переход», в толковании специалистов по России, подразумевал заранее известный результат и одновременно относительно гладкий путь из советского прошлого в либерально-рыночное будущее. Это толкование им казалось вполне обоснованным ввиду уже имевшегося положительного опыта в других странах в Центральной и Восточной Европе. Таким образом, их представление о том, что происходило в России в тот момент, было, скажем так, весьма и весьма романтичным. Это важно понимать, потому что именно из-за таких глубоких заблуждений, на которые к тому же накладываются сохранившиеся со времен «холодной войны» стереотипы, западные наблюдатели сегодня пеняют Путину, обвиняя его в сворачивании демократии.
Были, правда, и такие наблюдатели, которые не разделяли общую точку зрения. Например, Майкл МакФол не раз подчеркивал революционный характер посткоммунистической трансформации России [22] . Томас Грэм (нынешний руководитель российского отдела Национального совета безопасности) посвятил целую монографию причинам заката советской системы и опасностям вакуума власти в 1990-е гг. Он, в частности, писал, что рассказ о том, как Россия двигалась к пропасти, это история о засилии «политической близорукости, беспринципной политической борьбы, слабого здоровья, алчности и невезения» [23] .
Не революция, а заговор?
Когда неэкономисты анализируют события прошлого, это вполне естественно. Но когда даже лучшие из историков или политологов берутся рассуждать о сложных экономических вопросах, с точки зрения экономиста это подчас выглядит возмутительно плохо [24] . Именно так, из добрых побуждений, но с очень ограниченным пониманием реалий, написал о событиях в России, например, Стивен Коэн. С его точки зрения, Ельцин и его соратники воспользовались попустительством США и ради собственных корыстных интересов загубили становление демократии и процветания в стране. Коэн пишет: «С начала 1990-х годов и некоммунисты, и коммунисты выдвигали самые разные программы демократизации и перехода к рынку. Некоторые из этих программ были ничуть не менее радикальны, чем ельцинская, могли, судя по всему, оказаться более эффективными и уж точно не причинили бы столько страданий народу. Но ученые и журналисты их тем не менее с завидным постоянством отметали и даже откровенно порочили» [25] .
Как и некоторые другие сильно политизированные авторы, Коэн считает, что реальные альтернативы существовали и даже были весьма очевидны. То, что их не попытались осуществить на практике, он списывает исключительно на личные амбиции или алчность Ельцина и его ближайшего окружения. Подумать о том, что, возможно, большая часть предполагаемых альтернатив просто отсутствовала и что многие идеи были откровенно утопичны (например, о принятии некого «плана Маршалла» для России или о том, что демократическое движение само сформирует свои, новые госструктуры, спонтанно и в одночасье), – Коэн не желает.
Другие, как, например, Лилия Шевцова, просто сетовали по более чем очевидным поводам: мол, худшая ошибка Ельцина «была в том, что он не создал сильных политических институтов и не ввел стабильных правил игры» [26] . Питер Реддуэй и Дмитрий Глинский выбрали, возможно, несколько покровительственный тон: «Ельцинский режим настойчиво пытался взять бразды правления в свои руки, но при этом оставлял без внимания вопрос легитимности власти. Из-за этого страна попала в своего рода порочный круг: власть приобретала все более автократичный и централизованный характер, но при этом способность реально управлять правительство постепенно утрачивало» [27] . И так далее. Во всех этих наблюдениях есть, конечно, своя доля истины, но в целом их авторы либо сильно преуменьшают, либо вообще отрицают значение того, что, несмотря на наличие всей необходимой внешней атрибутики, госаппарат Ельцину достался крайне слабый, а механизмы для принятия эффективных решений у него практически отсутствовали.
Опубликовал недавно новый полемический очерк и Эдвард Лукас («Новая холодная война: почему Кремль представляет угрозу и для России, и для Запада»). Признавая, что Россия добилась огромного экономического прогресса, Лукас в то же время неоднократно, хотя и не очень убедительно предупреждает, что она вместе с этим провоцирует новую холодную войну: «...мы имеем дело с людьми, чья цель – причинить нам вред, ущемить и ослабить нас. При этом главное их оружие – деньги – одновременно и наше самое слабое место. Поэтому сегодня нам надо опасаться уже не огневой мощи советской военной машины, а хранящихся в их сейфах десятков миллиардов долларов». По мнению Лукаса, Россия теперь энергично и напористо использует свои огромные природные богатства и финансовые резервы, чтобы укрепить свое влияние, и этому ее агрессивному напору никто, кроме США и Великобритании, даже не пытается сопротивляться. Этот аргумент весьма далек от реальности. Но тем, кто все еще живет старыми представлениями о мире, он, конечно, придется по вкусу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дефолт, которого могло не быть"
Книги похожие на "Дефолт, которого могло не быть" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мартин Гилман - Дефолт, которого могло не быть"
Отзывы читателей о книге "Дефолт, которого могло не быть", комментарии и мнения людей о произведении.