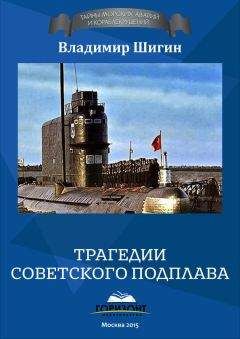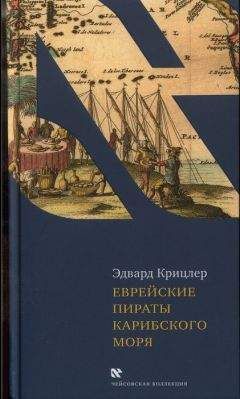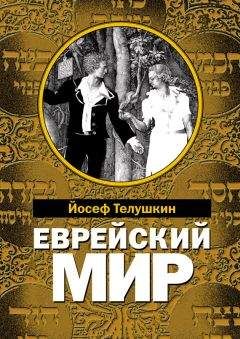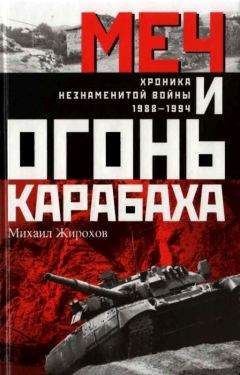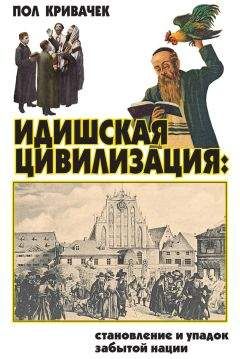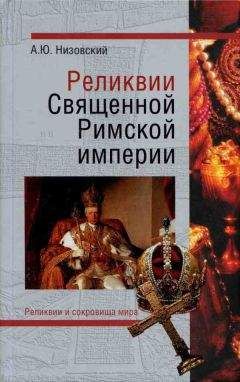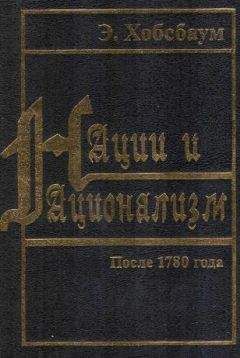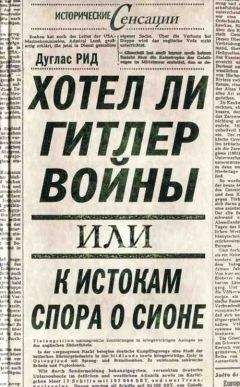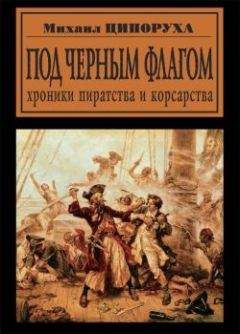Саул Боровой - Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»
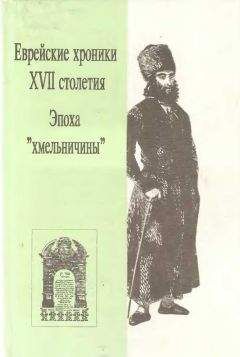
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»"
Описание и краткое содержание "Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»" читать бесплатно онлайн.
Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648–1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и Саббатая Гакогена «Послание» были уже через два — три года после описываемых событий опубликованы и впоследствии многократно переиздавались, став не только важнейшим историческим источником, но и страстным призывом к тшуве — покаянию и нравственному возрождению народа. Подобное восприятие и осознание трагедии эпохи стали основой духовного восстановления нации.
«Хроники», впервые издаваемые на русском языке в полном объеме, были подготовлены к печати еще в середине 1930-х гг. выдающимся историком С.Я. Боровым, но не пропущены советской цензурой в достопамятном 1937 году. И только сейчас, по случайно сохранившейся верстке, эта книга выпускается издательством «Гешарим».
Между запорожцами, посещавшими по торговым делам Умань и другие места польской Украины, и польско-еврейским купечеством не могли сейчас не установиться торговые связи. Старый запорожец вспоминал между прочим: за шкуру выдры «платили дорого не только запорожцы, но и ляхи и жиды»[77]. Очевидно, речь идет о тех мехах, которые запорожцы, по словам Кребс, продавали на ярмарках Умани. Вот еще отрывок из завещания запорожца-купца, умершего в эти годы, во время поездки по торговым делам в польскую Украину, где он говорит о каком-то еврее, с которым имеет какие-то тортовые дела: «За росписку, которую дал покойный Иван к отсылке до Сечи, имеющуюся от жида Зятковского, то прошу, чтобы сюда назад была прислана через Ивана Шаргородского, яко жид просит»[78]. Но все эти торговые связи возникали пока, насколько нам позволяет судить материал, за пределами Запорожской сечи.
Ближайшая судьба Умани достаточно хорошо известна. Во время колиивщины город подвергся жесточайшему разгрому. Но проходит немного времени, и требования жизни делают свое. По торговым дорогам, при первых признаках успокоения, мы видим торговые обозы предприимчивых еврейских купцов, энергично продвигающиеся к новому богатому и заманчивому рынку, бывшему для них в течение десятилетий наглухо закрытым: еврейские купцы из польской Украины впервые проникают в Сечь.
Во время кампании против турок и татар 1769–1774 гг. к устьям Днепра и Буга был послан отряд запорожских казаков. Эта «низовая команда» захватила в ногайских степях в октябре 1770 г. часть табора крымского хана Крым-Гирея. В числе пленных было свыше 500 волохов и более 100 евреев из местечка Янова с женами и детьми (не ясно, как они попали в ханский обоз. Надо думать, это имеет связь с событиями «колиивщины», когда, спасаясь от гайдамаков, часть еврейского населения Польской Украины бежала в ханские владения). Кошевой распорядился: волох отпустить, «а жидов от громады годовать, а иначе они все от голоду сгинуть». Все это делается вовсе не из одного человеколюбия, а казаки надеются получить за евреев богатый выкуп от их единоверцев. Они выбирают «шесть человек таких, у которых здесь оставались жены и дети, либо родственники, а паче отцы», и отпускают их в польскую Украину в родные места с тем, чтобы они там собрали денег на выкуп. А выкуп с них требуют большой: 8000 руб. Деньги должны быть собраны в течение 5 месяцев, иначе «оставшиеся жиды и все их родство имеют окрещены быть и по неволе, или самой смерти преданы будут без всякого пощадения, неприменно». Проходит много времени, почти целый год, посланцам такой суммы собрать не удается. В письме, посланному кошевому, они извещают, что смогли собрать всего 600 рублей, каковой суммой просят ограничиться. Их ходатайство энергично поддерживает также специальным письмом фельдмаршал Румянцев. Он просит снизойти к обнищавшим от войны и болезней евреям, которые не могут большим помочь своим попавшим в плен единоверцам. Кош собирает сходку, которая соглашается ограничиться указанным выкупом в 600 руб. Оставшиеся 77 евреев с женами и детьми (остальные очевидно погибли в трудных и непривычных условиях плена, а, может быть, кое-кто и спасся в индивидуальном порядке) передаются уже в польских пределах еврейским уполномоченным: Самуилу Марковичу, Марку Лазаревичу и Мошке Осиповичу, которые вносят эти 600 руб. и 40 аршин тонкого сукна в подарок кошевому. Они посылают из Умани также благодарственное письмо и подношение в 8 голов сахару. В этом письме уполномоченные среди разных комплиментов пишут: «да и впредь ясневельможность вашу всенижайше упрашиваем, если, по воле всемилосердного бога, еще под случай наш род в запорожское низовое войско попадется, не оставлять…» В свете дальнейших событий эта фраза получает особое значение. Весь этот эпизод, такой стильный и так легко укладывающийся в рамки привычных рассказов о Запорожье, был сообщен уже давно, еще в 1884 г., на страницах «Киевской Старины» неутомимым историком Новой сечи А. Скальковским[79]. Он, однако, не рассказал, потому ли, что это ему осталось неизвестным, либо не желая ломать представление о запорожцах, как о «извечных» и «принципиальных» врагах евреев[80], что этот эпизод был только началом весьма любопытных событий. Это осталось неизвестным и всем другим историкам Сечи.
Томясь в плену, ведя переговоры о своем выкупе, еврейские уполномоченные не теряют, однако, времени и решают использовать свое невольное пребывание на запретной территории с максимальной эффективностью. Они завязывают здесь связи, знакомятся с обстановкой и добиваются успеха, открывая этим еврейскому купечеству двери в Сечь. Тот самый казак, который привозил в кош цитированное выше благодарственное письмо, 8 голов сахару и сообщение о том, что он благополучно доставил пленных евреев, привозит с собой также официальное послание, подписанное тем же Самуилом Марковичем (уполномоченным пленных) и еще двумя евреями. Самый текст послания достаточно убедительно говорит за себя и не нуждается поэтому в комментариях. Евреи писали: «Да еще уведомились мы, что при запорожском войске, в Сечи Запорожской же и в прочих тамошних жительствах во владениях вашей вельможности купцам с навозом разных товаров, яко сукон, материи и протчего, также и горелки, довольно нет. А здесь ныне по воле божией благополучно. Для того вельможность вашу упрошуемо, з нашею покорностью повелеть нас в Сечь Запорожскую и во все тамошние места отсель горелку, з сукон и с прочих разных товарей и людей препровождать и тамо то продавать, ежели тако позволение от вельможности вашей сделаете [известите] своим писанием через своих нарочных казаков… Не оставить для опровождения дабы в пути обид следовать не могло. Также, когда и непозволение уведомить же с нарочными теми…» Послание было получено в кошевой канцелярии в самом начале 1772 г. (вероятно в конце февраля)[81].
Предложение попало на подготовленную почву, оно явно шло по линии уже четко наметившихся торгово-политических интересов Сечи, которая искала новых торговых связей и новых рынков сбыта. Кошевой атаман Петр Калнышевский, которому было адресовано это послание, близко принимавший к сердцу, как лидер так называемой «торговой партии», торговые интересы Сечи, а, как крупнейший купец, достаточно сильно непосредственно заинтересованный в них, ответил быстро. Надо думать, что для П. Калнышевского это предложение не было неожиданно; если не он его сам вызвал, то, во всяком случае, очевидно, он был подготовлен к нему за время переговоров с уполномоченными пленных (интересно отметить, что ответ его адресован не тем только трем евреям, которые подписали цитированное письмо-предложение, но и другим «уполномоченным»).
В своем весьма любезном ответе кошевой пишет не только о том, что он удовлетворяет ходатайство еврейских купцов, вместе с ними «в представляемых товарах признавая здешним казакам надобности», он указывает также, каким способом можно обставить совершенно безопасно их поездку в Сечь (предоставляя им специальный караул с Бугогардовой переправы) — он предлагает им также не ограничиваться только импортными операциями, а сообщает: «здесь же вы можете доставать лошади, рогатый скот, рыбу и прочее». П. Калнышевский вовсе не хочет, чтобы торговля с Сечью стала монополией именно этой группы еврейских купцов. Он считает нужным подчеркнуть, что Сечь вообще становится ныне открытой для евреев-купцов. Он просит их объявить, что «и из других мест ваши братья могли сюда приезжать с товарами». Им будет оказано такое же покровительство[82].
Кошевой проявляет большую энергию, и в тот же день, того же 12 марта 1772 г. он отправляет также ордер начальнику Бугогардового поста-переправы (через эту переправу шла вся торговля с Польшей), в котором он его извещает, что «уманским жидам… в здешние места привоз товаров позволен, то и повелеваем вам, когда начнут к вам приходить оные к вашим перевозам через реку Буг, стараться переправлять со всякою скоростью и [без]опасностью, чтобы притом никакой траты следовать не могло; и по требованию их давать им из ваших казаков для препровождения в путь людей достойных и верных, посколько надобно человек, коим приказываете, чтобы они до надлежащего места оных жидов со всякою справностью доставляли»[83].
Словом, принимаются все меры к обеспечению безопасности еврейских купцов на новых местах их торговой деятельности. Если вспомнить, что еврейские купеческие обозы должны идти из Умани всего через четыре года после ее разгрома, следуя через степи, где недавно рыскали ватаги гайдамаков, то эти заботы не кажутся излишними. Неудивительно поэтому, что в своем ответе на письмо кошевого от 25 марта 1772 г. купцы уделяют главное внимание именно вопросу о безопасности в пути. А пока они посылают небольшой презент кошевому: «штуку швабского сукна да сахару две головы»[84].
Наконец, в Сечь является первый еврей-купец: это был Майорко Майоркович. Он приехал, очевидно, еще в значительной степени с целью рекогносцировки. Он привозит от имени своих компаньонов и всего уманского кагала новый гостинец кошевому (полотно и т. д.) и получает от кошевого новое, еще более решительно формулированное, разрешение и приглашение еврейским купцам вступить в торговые связи с Сечью. В письме подчеркивается, что для них открыты не только пределы запорожских земель, но и сама Сечь, что они могут здесь как продавать, так и покупать и менять товары. Кошевой писал (в апреле 1772 г.): «что ж предлежит до продолжаемого з вашей стороны в запорожские приделы купечества, то как прежде от нас к вам писано, так и через сие подтверждаем, дозволяем чтоб все з вас желающие внутр приделов запорожского войска комерцию иметь в оные запорожского войска приделы [приезжали]. Коли ж ви паче в самую Сечь запорожскую надобние разных рук товары привозили, так там не только сходственно збувать будут, но и вдалую себе з тамошнего продукту разность выменою и за деньги доставать и в свои места отвозить могут… и хто из уманського кагалу сюда соберется с товарами, тот должен взять провожатых». Очевидно, у кошевого явилась даже мысль сделать этого Майорку чем-то вроде уполномоченного или посредника в этом торге. В черновике этого письма зачеркнута фраза, где сказано, что «желающие жиды ехать в Сечь с товарами могут явиться в оного Майорка»[85].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»"
Книги похожие на "Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Саул Боровой - Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»"
Отзывы читателей о книге "Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»", комментарии и мнения людей о произведении.