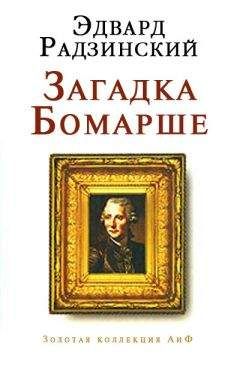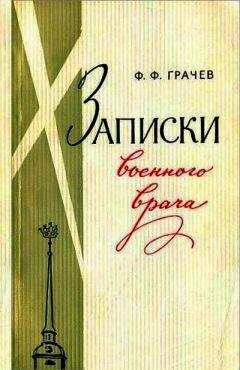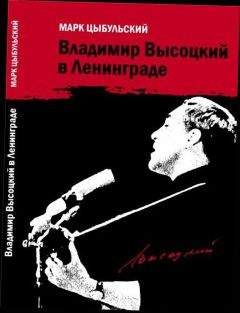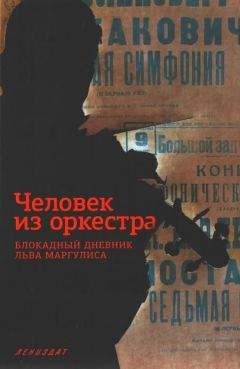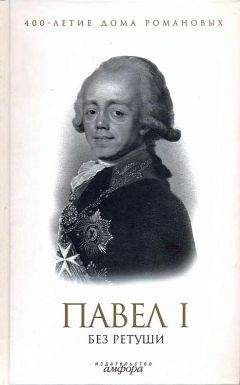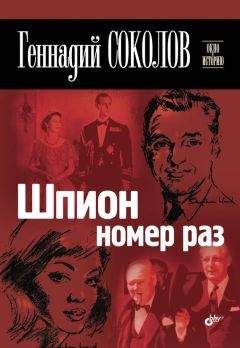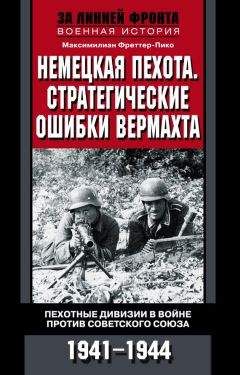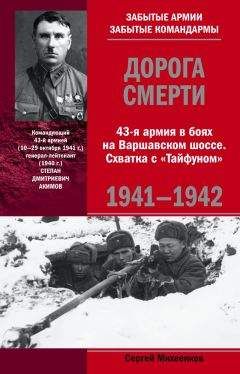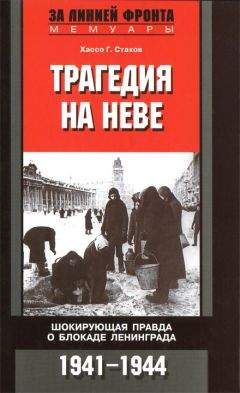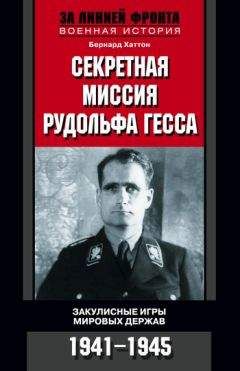Сергей Яров - Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг.
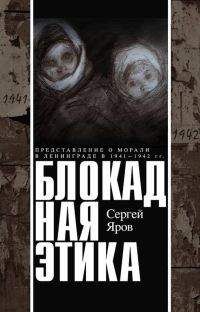
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг."
Описание и краткое содержание "Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг." читать бесплатно онлайн.
Эта книга посвящена одной из величайших трагедий XX века – блокаде Ленинграда. В основе ее – обжигающие свидетельства очевидцев тех дней. Кому-то из них удалось выжить, другие нашли свою смерть на разбитых бомбежками улицах, в промерзших домах, в бесконечных очередях за хлебом. Но все они стремились донести до нас рассказ о пережитых ими муках, о стойкости, о жалости и человечности, о том, как люди протягивали друг другу руки в блокадном кошмаре…
Милосердие обусловливало особую пристальность взгляда. Возмущались не только тогда, когда видели проявления жестокости. Иногда довольно было и одних подозрений – и возникал целый каскад обличений, и гипотетические поступки воспринимались как нечто, что имело место в действительности.
«Мать не слишком заботилась о нем», – расскажет позднее о пятилетнем мальчике-соседе А. В. Сиротова[408]. В ее повествовании отчетливо заметно, как милосердие побуждает «достраивать» человеческие истории и придает выводам категоричность.
А. В. Сиротова увидела, как мальчик выворачивал мешок, в котором обычно приносили хлеб, и старался «из швов выбирать крошки». Сама она редко бывала дома и едва ли знала подробности жизни чужой семьи. Свой приговор она вынесла по одной, бросившейся ей в глаза детали. «Каково же ему приходилось, если он додумался до такого „источника питания"», – напишет она позднее[409], но ведь на этот эпизод можно взглянуть и иначе. А. П. Бондаренко вспоминала, как детям разрешалось собирать крошки с телеги, перевозившей хлеб из пекарни – а в ее семье продукты делили поровну. До таких, и не только до таких источников питания «додумывались» не только потому, что кого-то обделяли или не заботились о нем. «Додумывались» все, и взрослые, и дети, когда пытались выяснить, не «завалялся» ли где-нибудь под буфетом или в дыре на полу пакетик купленных в прошлом году лапши и горчицы, соли и сахара, нет ли там крошки печенья и конфет. Переставляли мебель, все перетряхивали, проверяли каждый карман старой одежды – и не раз, и всегда на что-то надеясь[410].
Вместе с тем, эта готовность везде увидеть обман, алчность, стремление поживиться за чужой счет, весьма примечательна. Ею не только создавался определенный заслон против аморализма. Подробности события могли быть не ясны и даже не известны. В таком случае создавалась особая версия произошедшего, язык которой был заимствован из словаря обычных нравственных назиданий. В этой версии все детали нарочито укрупнены, а признаки распада выявлены предельно отчетливо.
6
Символом насилия и жестокости был фашизм. Особенно часто отмечалась безнравственность тотальных бомбежек города, гибель детей, стариков, женщин. «В приемный принесена 12[летняя] Галя Смирнова… Бедро ампутировали. Девочка в сознании. Зовет маму» — вот что видели и запомнили в эти дни[411].
«Детей-то вот жаль больше всего: чем они повинны, что созданы на свет в такое время», – записал в дневнике 12 декабря 1941 г. Г. А. Лепкович[412].
Обращали внимание на то, что бомбили не только военные заводы, но и больницы, жилые дома, детские учреждения[413]. Их уничтожение являлось для блокадников самым ярким воплощением зла. Ради чего бомбить, если не поражать военные цели? Нет на это у блокадников другого ответа, кроме такого: чтобы наслаждаться чужими страданиями, чтобы калечить всех без разбора – немощных, беззащитных, ослабевших – именно потому, что нравится калечить. Это казалось настолько диким, что одна из девочек в школе даже спросила:
«А фашисты знают, сколько у нас народа умирает?»[414].
И найдено было слово, которое могло показаться диковинным в устах испытавших чудовищные лишения, но которое предельно точно отразило шкалу обычных нравственных правил горожан: «хулиганство». «Это хулиганские выходки со стороны немцев, в военные объекты они не попадают, а только [в] частные дома, да обывателей бьют», – писала дочери Н. П. Заветновская 5 февраля 1942 г.[415]. То же слово – «хулиганство» – и с теми же доводами мы встречаем и в дневнике Н. П. Горшкова: «Обстрел мирного населения – это не что иное, как наглое хулиганство врага, т. к. никакой пользы для себя неприятель не достигает»[416].
И главное, что обличает аморальность фашистов – голод, который истребляет ленинградцев. «Разве это человечно или похоже на жизнь людей, если я живу в доме, где имеется 11 семейств, из них только одна имеет скудный запас и не голодает, а остальные 10 поочередно с голоду пухли и вообще многие, в том числе я, без палки не выходили на улицу», – отмечал в дневнике А. Лепкович[417]. В рассказе А. Н. Боровиковой дано описание разных этапов ее жизни – до войны и во время ее. Оно не лишено своеобразной художественной отделки, не очень виртуозной, но предельно искренней: так ярче можно прочувствовать и передать произошедшую с ней перемену. У нее было прошлое, когда она жила «как птичка», любила петь и шутить. У нее есть и настоящее – она стала молчаливой, грустной: «Вот сволочь Гитлер, что делает с людьми».[418]
Истощенные, искаженные холодом лица, зияющие пустоты разрушенных зданий, выброшенная и вывалившаяся из них на улицу мебель и скудный домашний скарб, неутолимое чувство голода и страдания людей, и близких, и далеких, и многое, что стало приметой «смертного времени» – все это рождало стойкое чувство ненависти. Не всегда выраженное патетично и многословно, оно отмечено в десятках блокадных документов. Его не заглушали ни рутина ежедневной борьбы за выживание, ни раздражение творившимися рядом безобразиями, ни осуждение поступков нерадивых, но сытых чиновников, воров и спекулянтов.
«Я никогда не была злой. Я всем хотела сделать что-нибудь хорошее», – записала в дневнике 20 октября 1941 г. школьница В. Петерсон[419]. А теперь она ненавидела этих «извергов» и «сволочей»: «…Они исковеркали нашу жизнь, изуродовали город»[420].
7
Упрочению милосердия способствовали рассказы о благородных поступках по отношению к слабым, обездоленным, беззащитным, голодным – поступках своих и чужих. Ни одна щепотка хлеба, переданная голодным, не изглаживалась из памяти очевидцев блокады. И многие ленинградские истории, сразу же занесенные в дневники, отраженные в письмах или сохранившиеся в позднейших мемуарах, – это именно перечисление подарков, и только их. Видя, как кто-то пытается помочь другим людям, стремились и сами оказывать поддержку, стыдились, сравнивая себя с тем, кто способен отдать последнее, хотя и тоже нуждался. Помогая другому человеку, неизбежно должны были еще раз проверить свои нравственные качества: жаден ли, готов ли к длительному самопожертвованию, не стремится ли оправдать аморальные поступки.
К. Ползикова-Рубец так оценила действия одного из педагогов, которая узнала о голодном обмороке в булочной преподавателя физики и обещала принести ему продукты: «Откуда она возьмет кофе, сахар? Оторвет от себя. В этом и есть подлинная забота о товарище»[421].
Дидактическое оформление с пафосными концовками вообще присуще рассказам К.
Ползиковой-Рубец, но те же приемы можно обнаружить и в других документах, когда отмечались случаи особо драматические или в чем-то необычные даже по блокадным меркам. В еще большей степени это стремление наделить тех, кто жертвовал собой, всеми привлекательными чертами заметно в интервью другого из блокадников. Когда началась война, ему было 9 лет. Не все он смог оценить и понять, детские впечатления, как это часто бывало, оказались встроенными в рассказы взрослых, более осмысленные и глубокие.
Вавила (его ровесник) ушел в булочную и не вернулся. Мальчика нашли весной, когда город очищали от сугробов. В его «авоське» обнаружили хлеб с «довеском» – это тогда поразило всех. Свидетельством пережитого потрясения, не исчезнувшего и спустя десятилетия, может служить эмоциональное напряжение рассказа, с характерными повторами и патетическими оценками.
Начинается то, что мы имеем право назвать моральным уроком для себя. Могут возразить, что это позднейшие записи, что эти доводы принадлежат не ребенку, но зрелому человеку, что тогда, в блокадные дни, он мог и не чувствовать столь ясно смысл происходившего у него на глазах. Вероятно, он не раз возвращался к этой истории, и она постепенно приобретала в его размышлениях законченность и отшлифованность, а ее герой отчетливее становился символом нравственной высоты. Но почему же она удержана столь крепко, почему так выделена среди сотен других блокадных эпизодов, почему он и сейчас не может рассказывать о ней спокойно – а это слишком у ощутимо по накалу рассказа: «Он знал, что вот он принесет хлеба и весь хлеб разделят на троих. И этот довесочек тоже разделят. И если бы он съел этот довесочек, он бы объел мать и сестру. И вот голодный, умирающий Вавила не мог себе этого позволить»[422].
В. Г. Даев был свидетелем того, как на рынке одна женщина отдала 250 г масла за килограмм дуранды. Он не знает, кто эта женщина, как она живет, почему она так поступила. Он знает другое – эти продукты несоизмеримы, масло ценится дороже. И начинается точно такое же, отмеченное нами ранее, «достраивание», когда за каждым действием видят проявления сугубой порядочности, самого светлого, что есть в человеке, хотя и не могут этого ничем подтвердить. Если женщина имеет масло, значит, как считает он, у нее есть дети: этот продукт выдавался только по детским «карточкам». И тогда смутные догадки быстро сменяются непоколебимой уверенностью: «…Женщине, очевидно, важно было насытить своих детей… она представила, сколько блюдечек горячей каши может она приготовить из этого куска дуранды»[423].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг."
Книги похожие на "Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Яров - Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг."
Отзывы читателей о книге "Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.