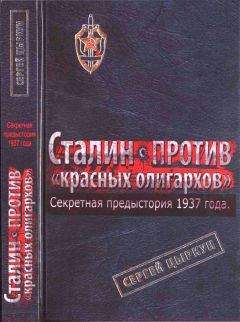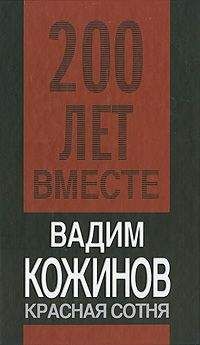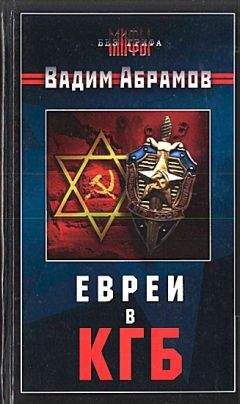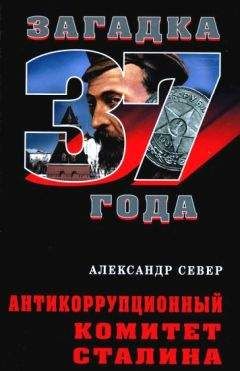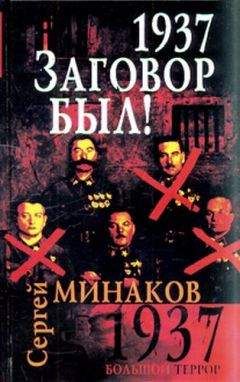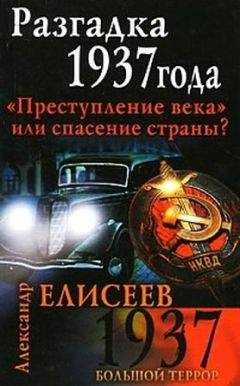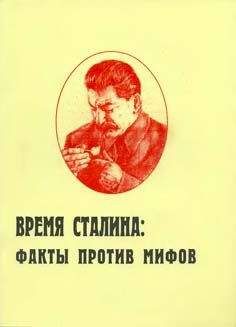Вадим Роговин - 1937

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "1937"
Описание и краткое содержание "1937" читать бесплатно онлайн.
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).
Название четвертого тома говорит само за себя — это самый страшный год в истории России. На основе многих исторических материалов, в том числе архивных документов, автор во многом по-новому раскрывает механизм великой чистки, массовых репрессий, ежовщины.
То, что мы назвали «комплексом Кестлера», Троцкий рассматривал лишь как один из возможных мотивов «признаний», способный воздействовать только на лиц, прошедших ранее через несколько стадий отречений от самих себя. Развивая суждения Сержа, отводившего большое место в поведении подсудимых их преданности партии и преклонению перед её единством, Троцкий писал: «Эти люди духовно родились в большевистской партии, она сформировала их, они боролись за неё, она подняла их на гигантскую высоту. Но организация масс, выросшая из идеи, выродилась в автоматический аппарат правящих. Верность аппарату стала изменой идее и массам. В этом противоречии безвыходно запуталась мысль капитулянтов. У них не хватало духовной свободы и революционного мужества, чтобы во имя большевистской партии порвать с тем, что носило это имя. Капитулировав, они предали партию во имя единства аппарата. ГПУ превратило фетиш партии в удавную петлю и постепенно, не спеша, затягивало её на шее капитулянтов. В часы просветления они не могли не видеть, куда это ведёт. Но чем яснее становилась перспектива моральной гибели, тем меньше оставалось шансов вырваться из петли. Если в первый период фетиш единой партии служил психологическим источником капитуляций, то в последней стадии формула „единства“ служила лишь для прикрывания конвульсивных попыток самосохранения» [426].
С помощью «комплекса Кестлера» можно объяснить отличие поведения жертв московских процессов от поведения диссидентов 70—80-х годов, которые заведомо знали: их гибель в борьбе против режима невероятна, худшее, что может им угрожать,— это тюрьма или лагерь. Но и в этом случае они ожидали, что зарубежные правительства и мировое общественное мнение будут бороться за их вызволение.
Между тем даже некоторые активные диссиденты 60—70-х годов (например, П. Якир) выступали на специально организованных пресс-конференциях и по телевидению с отрепетированными лживыми покаяниями. Лишь когда реальностью для диссидентов стала надежда на освобождение (в результате протестов зарубежной общественности) и эмиграцию, подобное оплёвывание своей прошлой политической деятельности прекратилось.
Для подсудимых 30-х годов не было никакой надежды на помощь из-за рубежа, которая придавала энергию диссидентам-антикоммунистам. На них не могло не давить ощущение стоящей перед ними глухой стены. Они завоевали Советскую власть, боролись за неё долгие годы и теперь надеялись на сохранение хоть каких-то её завоеваний. Эта сверхличная цель стояла для них выше сохранения своей личной чести и человеческого достоинства.
Наконец, у капитулянтов тридцатых годов не было своей «референтной группы», каковой для диссидентов застойного периода была либеральная советская интеллигенция, полностью стоявшая на их стороне. Ни сталинисты, ни оппозиционеры не считали капитулянтов «своими».
В отличие от Сталина, изображавшего большевиков некими сверхлюдьми («Мы, коммунисты,— люди особого склада. Мы скроены из особого материала»; «нет в мире таких крепостей, которые не могли бы взять трудящиеся, большевики» [427]), Троцкий часто пользовался применительно к большевикам выражением Ницше: «человеческое, слишком человеческое». Под этим выражением он имел в виду подверженность обычным человеческим слабостям и способность к рационализации, т. е. к оправданию своего низменного поведения якобы принципиальными мотивами. Если проявления «человеческого, слишком человеческого» он отмечал у своих оппонентов даже во время их пребывания у власти, то тем более естественными он считал такие проявления в условиях пребывания в сталинских тюрьмах. «Может быть,— писал он,— на свете есть очень много героев, которые способны вынести всякие пытки, физические или нравственные, над ними самими, над их жёнами, над их детьми. Не знаю… Мои личные наблюдения говорят мне, что ёмкость человеческих нервов ограничена. Через посредство ГПУ Сталин может загнать свою жертву в такую пучину беспросветного ужаса, унижения, бесчестья, когда взвалить на себя самое чудовищное преступление, с перспективой неминуемой смерти или со слабым лучом надежды впереди, остаётся единственным выходом. Если не считать, конечно, самоубийства… Но не забывайте, что в тюрьме ГПУ и самоубийство оказывается нередко недостижимой роскошью!» [428]
Из писем и личных свидетельств своих сторонников, прошедших через сталинские тюрьмы, Троцкий достоверно знал, что с конца 20-х годов ГПУ стало широко применять пытки бессонницей, конвейерные допросы и т. д. Он не мог не предполагать, что с переходом к великой чистке подобные приёмы многократно ужесточились. Однако в его распоряжении не было прямых доказательств того, что «меры физического воздействия» применялись к жертвам московских процессов. Поэтому он лишь косвенно давал понять своим читателям, что, наряду с изощрённым психологическим давлением, следствие добивалось признаний и при помощи зверских истязаний.
Троцкий напоминал, что «инквизиция, при более простой технике, исторгала у обвиняемых любые показания. Демократическое уголовное право потому и отказалось от средневековых методов, что они вели не к установлению истины, а к простому подтверждению обвинений, продиктованных следствием. Процессы ГПУ имеют насквозь инквизиционный характер: такова простая тайна признаний» [429]. Уже сам факт использования одних лишь показаний подсудимых в качестве судебного доказательства свидетельствовал о возврате сталинского «правосудия» к средневековому варварству. Это с достаточной полнотой объясняет, почему даже старые большевики и опытные политики, созданные, как и все люди, из плоти и крови, вели себя на суде так, как тёмные и неграмотные жертвы инквизиции.
Вместе с тем Троцкий подчёркивал, что даже официальные сообщения о процессах показывают, какой долгий и тяжкий путь предшествовал позору, которому подсудимые согласились подвергнуть себя на суде. Отчёт о процессе 16-ти, в котором показания Смирнова были нагло сокращены и лживо «резюмированы», тем не менее раскрывал «достаточно яркую картину трагической борьбы этого честного и искреннего старого революционера с самим собою и со всеми инквизиторами».
Менее уязвимыми были, на первый взгляд, признания Зиновьева и Каменева. Однако в них совершенно отсутствовало какое-либо фактическое содержание. «Это агитационные речи и дипломатические ноты, а не живые человеческие документы. Но именно этим они выдают себя. И не только этим». Сопоставление признаний Зиновьева и Каменева на процессе 16-ти с их признаниями в январе 1935 года и со всеми предшествующими покаяниями, начиная с декабря 1927 года, позволяет «установить на протяжении девяти лет своеобразную геометрическую прогрессию капитуляций, унижения, прострации. Если вооружиться математическим коэффициентом этой трагической прогрессии, то признания на процессе 16-ти предстанут перед нами как математически необходимое заключительное звено длинного ряда» [430].
Разумеется, чтобы побудить подсудимых к «добровольным» признаниям, им в награду была обещана жизнь. Но как могли поверить в это обещание подсудимые второго процесса, знавшие, что все их предшественники после первого процесса были расстреляны? На этот вопрос Троцкий отвечал следующим образом: «Радеку, Пятакову и др. ГПУ оставляет тень надежды.— Но ведь вы расстреляли Зиновьева и Каменева? — Да, мы их расстреляли, потому что это было необходимо; потому что они были тайные враги; потому что они отказались признать свои связи с гестапо, потому что… и прочее, и так далее. А вас нам расстреливать не нужно. Вы должны нам помочь окончательно искоренить оппозицию и скомпрометировать Троцкого в глазах мирового общественного мнения. За эту услугу мы вам подарим жизнь. Через некоторое время мы вас даже вернем к работе… и пр., и т. д.— Конечно, после всего, что случилось, ни Радек, ни Пятаков, ни все другие… не могут придавать большой цены таким обещаниям. Но по одну сторону у них верная, неизбежная и немедленная смерть, а по другую… по другую тоже смерть, но озаренная несколькими искорками надежды. В такого рода случаях люди, особенно затравленные, измученные, издерганные, униженные склоняются в сторону отсрочки и надежды» [431].
На открытые процессы были выведены лишь те политические деятели, которые задолго до своего ареста публично подчёркивали свою верность первой заповеди сталинской бюрократии — неистовой ненависти к «троцкизму», в сознании которых закреплялся «комплекс вины» за свою прошлую оппозиционную деятельность. На этом комплексе можно было всячески играть, его было можно всячески разжигать.
О том, как это происходило, свидетельствует судьба Бухарина и Рыкова, которых Сталин до ареста решил провести через длительную процедуру новых унижений.
XXI
Бухарин и Рыков в жерновах «партийного следствия»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "1937"
Книги похожие на "1937" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Роговин - 1937"
Отзывы читателей о книге "1937", комментарии и мнения людей о произведении.