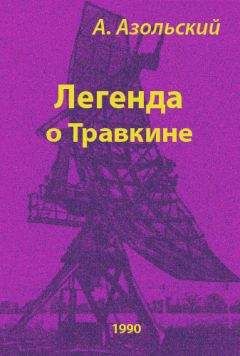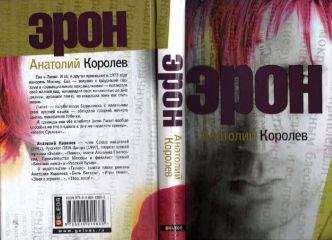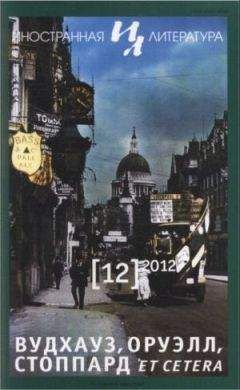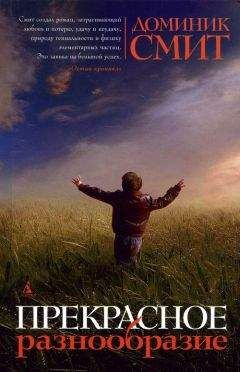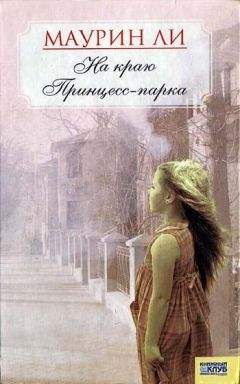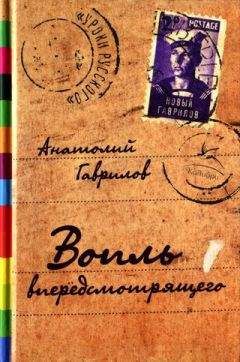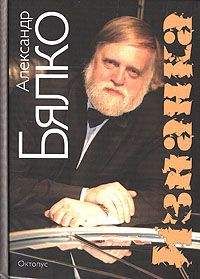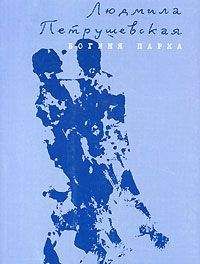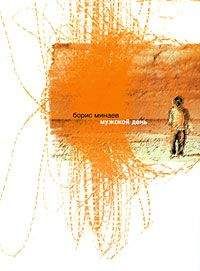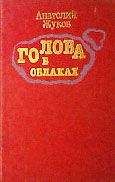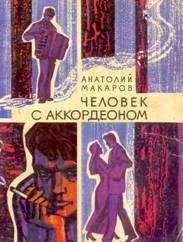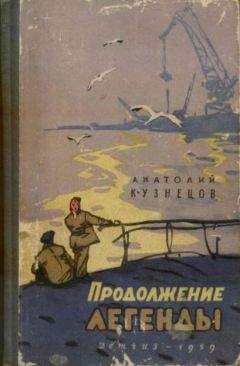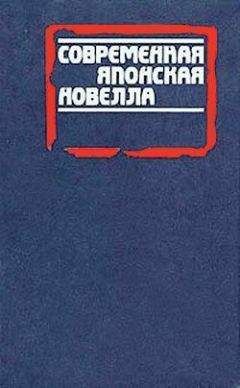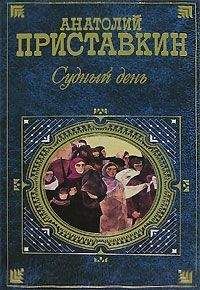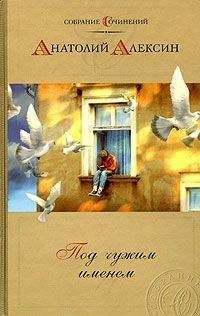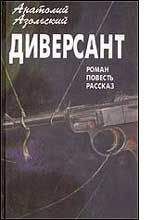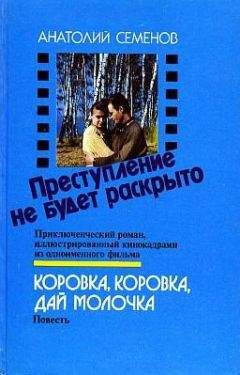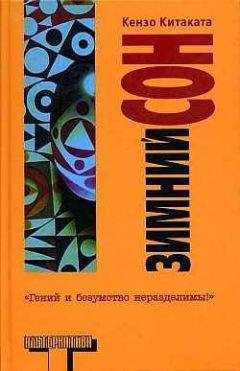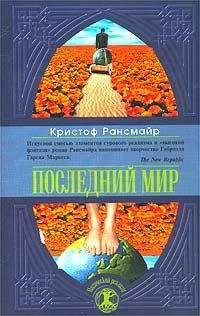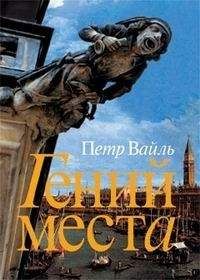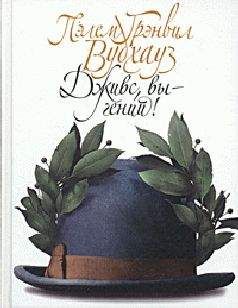Анатолий Королев - Гений местности
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гений местности"
Описание и краткое содержание "Гений местности" читать бесплатно онлайн.
Повесть-эссе «Гений местности» рассказывает историю одного русского пейзажного парка.
Это была пора расцвета дионисийской мощи: узкие еловые аллеи времен Анны Дмитриевны совсем заросли, ели тесно сомкнулись в который раз, но, кажется, навсегда. Даже широченная центральная аллея от въездных ворот утонула в набеге елового подроста. Еловый лесок рос, тянулся ввысь. Между лесом и парком протянулся сначала узкий, а затем все более широкий мост из ели и пихты. Взметнулось вверх несколько лиственниц с размахом веток в беличий прыжок. Со стороны дома, к покосившейся колонне из леска устремился острый мыс молодой поросли. Через пару лет зеленый утюг докатился до самого подножья колонны, и вот уже еловые лапы стали царапать мрамор, подбираясь к бабьему лицу лжеполководца. Зеленые партеры, которые так холила Нюта Врасская, пали первыми. Гладь ровной стрижки сменили бугры и ямы. Перед фасадом встало пестрое войско: шатры шиповника, копья вереска, конские гривы акаций, шлемы чертополоха… Нежные цветники, клумбы штамбовых роз, вензеля ноготков — от всего этого и следа не осталось. К парадным ступеням желтым дымком — пах! пах! — стремилось золото лютиков, рдела ржавая кровь горицвета. Шла пальба и перестрелка нивяника, васильков и ромашек. Прямые линии искривились, квадраты расплылись, цветочные прошпекты рассеялись в жадном хаосе сорняков. Петербургская планиметрия повсюду терпела поражение. Почему?
Почему шпалеры Версаля и ранжиры Петрополиса так нуждаются в ножницах садовника? Стоит чуть ослабить удила, как натура бросается в пьяное бегство.
Почему Северной Пальмире шепотом бросали проклятья еще во времена царя-Гороха? «Питербурху де быть пусту». Эти слова бывшей царицы и петровой жены Авдотьи Лопухиной, сначала попали из показаний царевича Алексея в протокол допроса, а оттуда в «Историю царствования Петра Великого» историографа Устрялова и труд Соловьева. Какая амплитуда оценок! От письма Меншикова, в котором он Питербурх называет «святой землей», и панегириков Сумарокова — «северный Рим!» — до зубовного скрежета Достоевского: «…а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, и все вдруг исчезнет». Набор проклятий можно продолжить — Лесков: «…они скоро все провалятся в свою финскую яму». Белый: «Горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса (землетрясения) изойдут повсюду горами. На горах окажется Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится». Блок: «Ему казалось, кое-как, Что Петербург не враг России». В 1915 году один современник пишет другому: «Москва действительно сердце России, а Петроград… вы думаете голова, увы, нет! Это геммороидальная шишка колежского асессора, который Петроград принимает за Россию. „Быть ему пусту“, — говорили старообрядцы».
А как же Пушкин?
«Люблю тебя, Петра творенье…», а дальше: «Ужо, тебе!»
А как выскальзывает — обмылком — само имя столицы, никак не дается в руки: Питер-Бурх, Петербург, Санкт-Петербург, Петроград, Питер… или Северная Пальмира, Северный Рим. Но ведь сказано, четвертому Риму не бывать.
И все-таки, как же наш самый петербургский Пушкин?
Сказать, что он видел в Петрополе и зло, и благо — значит, уйти от ответа, отделаться среднеарифметическим ничто.
А ведь он разгадал его тайну. Только не в «Медном всаднике», а в «Уединенном домике на Васильевском».
И опять сноска в тексте: Пушкин, пробуя на слушателях законченный замысел своего «Влюбленного беса», рассказал его как-то на вечере у Карамзиных. И надо же! Один из гостей — юный Титов, вернувшись домой, записал рассказ поэта в тетрадь, а вскоре явился с повинной к автору и перечел записанное, в надежде опубликовать повесть. Пушкин был убит. Устно поправив чтеца, он махнул рукой на давний замысел. Стыдливый плагиат был вскоре издан, шедевр — погиб… Собственно петербургская суть замысла в том, что даже влюбленный черт не смог осчастливить свою Веру и погубил ее. Благие порывы зла — все равно зло. (Здесь еще и спор с Гете, у которого Мефистофель говорит: «Я — силы часть, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».) Пушкинский бес — душа Петербурга, который есть таким образом любящее зло. Вот ответ поэта.
А тайное имя Петрополиса было всегда одно и тоже — Амстердам! Именно его было велено построить Доменико Трезини. Велено — исполнено.
Достоевский сделал попытку провести через прямоугольники Амстербурга древесное кольцо в духе московских кругов, соединить Летний сад, Марсово поле, деревья Таврического с зеленью Адмиралтейства и Исаакия извилистой бульварной полосой. Кривой линией поверх геометрии углов. Но попытка эта была мысленной.
Последним «словом» паркового искусства в конце века стал сад садиста, эстляндкого барона Карла-Августа-Симеона-Генриха-Фридриха фон Нейман-Муциуса. Его творение находилось где-то в районе современного Керново, недалеко от Балтийского побережья. Пресытившись собственным парком, новый маркиз де Сад велел половину деревьев выкопать и посадить в те же ямы, только головой вниз, а корнями вверх. Велено — исполнено. И что же? Деревья в массе своей прижились! Корни, кое-как, пустили ветки, а кроны, с грехом пополам, превратились в корни.
Но вернемся в брошенный парк.
Если регулярную часть на верхней терассе смял еловый частокол и вал чертополоха, то в нижнем вольном парке, наоборот, соразмерность и величие остались прежними, даже после того как всласть набрали воздуха и размаха.
Врастали в небо колоссальные сосны. Поражали массой священные дубы во главе с одноруким трезубцем (теперь уже двузубцем). Благоухали вековые липы. Земля между стволами лежала чистой и ровной, осенью — под ковром палой листвы, зимой — под снежным покровом, летом под иглами и травой. Странно, но алчный кустарник не захватывал полосы света и открытые пятна солнцепека, только кое-где встали тихие фонтаны шиповника — зеленые фонтаны в струистых чашечках цветов — да выше поднялись камышевые трубки на озерцах. Еще больше! Вот уже полвека как парк хранил любимые черты капитанской внучки: так же вился коленами «галантир»; стояли веером семь кленов, «семеро братьев»; зеленели, обнявшись, «дуэлянты»-липы, розовела на закате телесной чешуей и золотой шелухой сосна — «одинокая мачта»; рокотал малахитовой тучей дуб Периклес.
Постепенно, сама собой, оживилась проточная вода в нижнем парке, просочились по линиям красоты родниковые побеги. Тривиальный гений покойного Сонцева снова воскрес, ряска облезла с прудов, и зеркала засияли на солнце.
В начале тридцатых годов здесь было решено открыть пансионат для полярных летчиков и вокруг устроить парк культурного отдыха. Так в парк вступила новая Красота.
На создание парка были мобилизованы студенты ВХУТЕИНа. Устьем малой пейзажной революции была конкретная дата — 7 ноября 1933 года, шестнадцатая годовщина Великого Октября. На работы были отведены один месяц каникул и месяц учебы. Студенты разместились в заброшенной крыле вместе с рабочими-строителями, которые начали ремонт особняка. Стоячую тишь разбудили перестуки топора и молотков. Среди рабочих находился и плотник Прогресс Молокоедов — отец последнего героя нашего повествования. Свое громкое имя он получил в семнадцатом, родившись в семье сельского активиста и агитатора. Революционные имена были в моде: Октябрина, Вилен, Нинель (читать с конца), Коминтерн… вкус к звучности сельский плотник пронесет через всю жизнь, он и своего послевоенного сына назовет Авангардом. Но мы забежали вперед.
К запахам парка надолго примешался дух свежей краски, скипидара, олифы, вонь столярного клея, кипящего в котелках. Время было веселое и строгое. Первым делом сбили злащеных купидонов с беседки «лямур», а ее купол украсили макетом огромной подшипника… Когда-то Вольтер и иже с ним считали панацеей от всех бед просвещение, отныне панацеей была объявлена производительность труда.
Злащеные обрубки амуров были торжественно сожжены в ночном костре, вместе с другой ненавистной символикой неравенства: орлами, дикторскими топориками и прочим деревянным хламом, который с гиком содрали со стен особняка. Новая красота говорила «нет и нет» дореволюционным изыскам. После беседки «билье-ду» настала очередь ганнибаловской колонны. Латинская надпись у основания — Hannibal — была сбита. Но вот что удивительно! Сам бюст на макушке был оставлен в покое. Строгие юноши и девушки решили (и правильно), что общий абстрактный облик полководца вполне сгодится для олицетворения другого героя человеческой истории — товарищ Августа Бебеля. Кроме того, бюста самого Бебеля под рукой не имелось. Ограничились тем, что крупно красными буквами — сверху вниз — написали по всей колонне: «Вечная слава революционеру Бебелю!» В этой грубоватой подделке есть один интересный элемент новой красоты; бедность вынуждала ее пользоваться старыми знаками для выражения новых идей. Бебель в античном шлеме?.. Здесь, конечно, таилось противоречие, но до поры до времени оно было скрыто.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гений местности"
Книги похожие на "Гений местности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Королев - Гений местности"
Отзывы читателей о книге "Гений местности", комментарии и мнения людей о произведении.