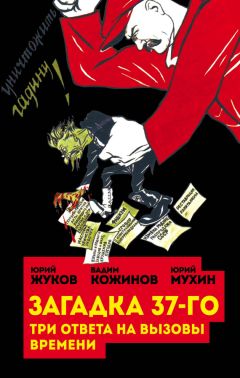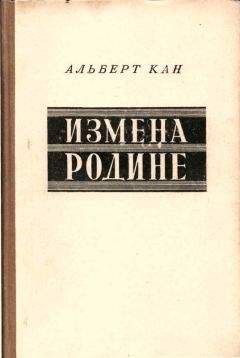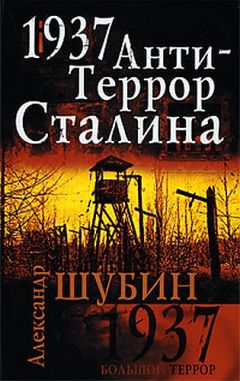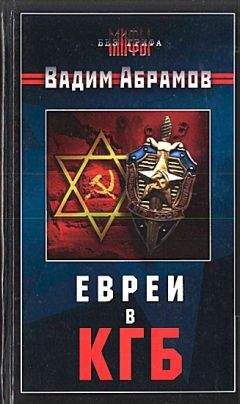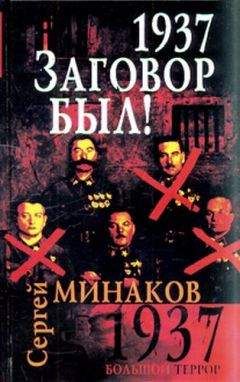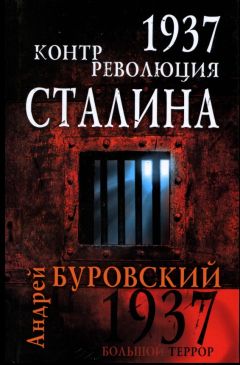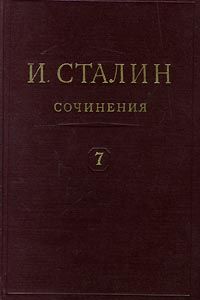Вадим Роговин - Была ли альтернатива? («Троцкизм»: взгляд через годы)
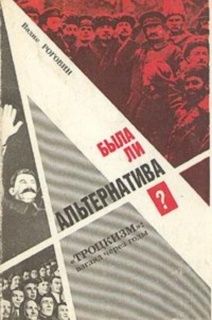
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Была ли альтернатива? («Троцкизм»: взгляд через годы)"
Описание и краткое содержание "Была ли альтернатива? («Троцкизм»: взгляд через годы)" читать бесплатно онлайн.
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).
В первом томе впервые для нашей литературы обстоятельно раскрывается внутрипартийная борьба 1922—1927 годов, ход и смысл которой грубо фальсифицировались в годы сталинизма и застоя. Автор показывает роль «левой оппозиции» и Л. Д. Троцкого, которые начали борьбу со сталинщиной еще в 1923 году. Раскрывается механизм зарождения тоталитарного режима в СССР, истоки трагедии большевистской партии ленинского периода.
Результатом этого выступления стало направление Антонова-Овсеенко за рубеж с дипломатическим поручением. Это был очередной (после Раковского и Мдивани) случай широко практиковавшегося в последующие годы «первоначального» наказания оппозиционеров путём «дипломатической ссылки».
На январском (1924 года) пленуме ЦК с особенно оскорбительными замечаниями в адрес лидеров оппозиции выступил Зиновьев, задавший тон дальнейшей их травле аппаратчиками. Пленум, как говорилось в информационном сообщении о его работе, «подвел итоги партийной дискуссии, причём ряд выступавших членов ЦК, работающих на местах, в резкой и категорической форме осудили линию оппозиции (Троцкого, Радека, Пятакова и др.) о легализации в партии фракций и группировок, о противопоставлении аппарата партии и т. п.» [339] Таким образом, ещё до партийной конференции, которая должна была подвести итоги дискуссии, три члена ЦК, в том числе один член Политбюро, были публично обвинены в антипартийных взглядах.
XXI
Победа или поражение?
Подготовка к конференции была проведена Сталиным по всем требованиям аппаратной механики. Уже на Московской губернской конференции лидеры оппозиции обращали внимание на то, что на районных конференциях за резолюции, предложенные ЦК, голосовало (в целом по Москве) 1708 человек, а за оппозицию — 878, т. е. 34 процента. На городской конференции набралось лишь 25 процентов сторонников оппозиции, «потому, что чем выше, тем больше действует аппарат». Московский же комитет партии был выбран целиком «однородным», т. е. состоящим из одних сторонников ЦК, что было грубым нарушением традиций большевизма. Подобная «однородность» ещё в большей степени характеризовала состав XIII конференции РКП(б) (январь 1924 года), на которую не был избран с решающим голосом ни один из коммунистов-оппозиционеров.
В речи Преображенского на конференции указывалось, что «вся провинция (т. е. местные партийные организации.— В. Р.) была запугана насчёт единства партии, насчёт раскола, который на самом деле грозит партии больше со стороны большинства ЦК, чем со стороны кого бы то ни было другого» [340].
Обращаясь к большинству ЦК, Радек заявил: «Вы ставите вопрос о снятии т. т. из оппозиции с постов. Этот пример, данный партией наверху, пойдет по всей партии до низовых её ячеек. И вы доиграетесь… до лицемерия в партии, когда люди будут прятать мысли для того, чтобы избегнуть таких последствий» [341].
В предложенном Преображенским проекте резолюции выдвигалось требование «очищения дискуссии от личных моментов, вносящих в неё отраву и наносящих ущерб авторитету партии в глазах непартийных масс» [342]. Напоминая, что «тов. Ленин в письме (почему-то до сих пор неизвестном партии) относительно нац. вопроса сказал, что озлобление в политике является самым последним делом», Преображенский говорил: «Я считаю основной ошибкой, допущенной Политбюро персонально по отношению к т. Троцкому, то, что ЦК в нашей большевистской среде третирует т. Троцкого как чужака. При таком отношении невозможна совместная работа… Здесь мы видим в гораздо большей степени стихию чувств и воспоминаний, чем политический расчёт вождей партии, которые должны знать, что они в этом вопросе должны ставить на первый план политический интерес» [343].
Однако все эти голоса предостережения, против методов внутрипартийной борьбы, которые через несколько лет своим остриём обрушатся против многих представителей тогдашнего большинства, не были услышаны конференцией.
Не было услышано и предостережение И. Я. Врачёва по поводу провокационной вылазки Сталина, который в своём докладе и заключительном слове заявил, будто оппозиция имеет своё бюро, что свидетельствует о её превращении во фракцию. Врачёв предложил тщательно проверить это двукратное заявление Сталина, чтобы в случае его подтверждения привлечь к строжайшей партийной ответственности виновных в организации фракции. Это предложение, грозящее разоблачением сталинской провокации, было конференцией отклонено.
Отклонённой оказалась и предложенная Преображенским резолюция об итогах дискуссии, где указывалось, что «чрезвычайное запоздание с необходимой переменой внутрипартийного курса придало самому повороту резко административный характер, что облегчило консервативным элементам партии возможность, признавая новый курс на словах, повести против него упорную борьбу на деле. Главным орудием этой борьбы явилось обвинение во фракционности всех тех, кто выступал с критикой деятельности руководящих учреждений и за фактическое обновление партийного аппарата.
Критика старого, ещё не изжитого бюрократического курса, как и критика бессистемной хозяйственной политики, были объявлены попыткой подорвать авторитет и значение ЦК партии. Совершенно очевидно, что такая явно бюрократическая и в корне ложная точка зрения на деле означала бы — при строго централистическом характере партийного руководства во всех вопросах — ликвидацию всякой дискуссии и всякой демократии. Всё прошлое нашей партии, в частности, история всех предсъездовских дискуссий свидетельствует, что внутрипартийная критика, в том числе и критика политики ЦК, вполне совместима с действенным единодушием и твёрдой дисциплиной» [344].
В проекте резолюции, предложенном Преображенским, содержался прогноз дальнейшего развития событий в том случае, если консервативное сопротивление аппарата идеям резолюции от 5 декабря не будет преодолено. «Если бы бюрократические тенденции снова одержали хотя бы временную победу, т. е. фактически помешали бы в ближайшее время применению партийной демократии,— это привело бы неизбежно к чрезвычайному усилению недовольства широких партийных масс и, как следствие этого, к усугублению механических мер партийного руководства на суженном базисе, что в близком будущем привело бы к новому более острому кризису и в партии» [345].
Это печальный прогноз целиком подтвердился в ходе всей последующей внутрипартийной борьбы.
В решениях конференции платформа оппозиции, представлявшая попытку осуществить политическую реформу, была оценена как «явно выраженный мелкобуржуазный уклон». Подобные политические ярлыки будут в последующем увенчивать судьбу каждой новой оппозиции.
Как вспоминает Врачёв, после конференции Каменев сказал одному из видных оппозиционеров М. С. Богуславскому: «А здорово мы вас разбили? Вы же провалились. Партия за нами пошла». Богуславский ответил: «История разберётся», на что Каменев тут же отреагировал циничными словами: «…Запомните раз и навсегда, это будет зависеть от того, кто и как будет писать историю» [346].
О том, с помощью каких методов была достигнута победа большинства ЦК над оппозицией, недвусмысленно говорилось в письме Бухарина к Зиновьеву. «Очень боюсь,— подчёркивал Бухарин,— что Вы увлечетесь победой, тем, что удалось „свалить сверхчеловека“ (т. е. Троцкого.— В. Р.), тащащего на неправильные рельсы и т. д. В особенности может затуманить мысль то обстоятельство, что удалась штука, которая не удавалась даже Ильичу. Прошу Вас не переоценивать ни размеров, ни характера, ни прочности победы. Мы сражались по существу только в Москве. Мы имели в руках весь аппарат. Мы имели печать и т. д. Наконец, мы имели — что очень важно — в своих руках идею единства и преемственности партийной традиции, персонально воплощённую. И всё же оппозиция в Москве оказалась довольно значительной, чтобы не сказать больше» [347].
Особую активность в борьбе с оппозицией как до, так и на самой конференции проявляло руководство ленинградской партийной организации во главе с Зиновьевым. Только оказавшись «загнанными» Сталиным и его новыми союзниками в следующую оппозицию, Зиновьев и Каменев поняли, к каким последствиям для них самих привела позиция, занятая ими в дискуссии 1923 года. Спустя два с половиной года Зиновьев говорил об этой дискуссии как о «печальном времени». «Вместо того, чтобы нам — двум группам настоящих пролетарских революционеров — объединиться вместе против сползающих Сталина и его друзей, мы, в силу ряда неясностей в положении вещей в партии, в течение пары лет били друг друга по головам… Мы говорим, что сейчас уже не может быть никакого сомнения в том, что основное ядро оппозиции 1923 г., как это выявила эволюция руководящей ныне фракции, правильно предупреждало об опасностях сдвига с пролетарской линии и об угрожающем росте аппаратного режима… Да, в вопросе о сползании и в вопросе об аппаратно-бюрократическом зажиме Троцкий оказался прав против вас» [348].
В декларации объединённой оппозиции, представленной на июльский пленум 1926 года и подписанной в числе других оппозиционеров Зиновьевым и Каменевым, говорилось, что «десятки и сотни руководителей оппозиции 1923 г., в том числе многие старые рабочие-большевики, закалённые в борьбе, чуждые карьеризма и угодливости, несмотря на всю проявленную ими выдержку и дисциплину, остаются по сей день отстранёнными от партийной работы» [349].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Была ли альтернатива? («Троцкизм»: взгляд через годы)"
Книги похожие на "Была ли альтернатива? («Троцкизм»: взгляд через годы)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Роговин - Была ли альтернатива? («Троцкизм»: взгляд через годы)"
Отзывы читателей о книге "Была ли альтернатива? («Троцкизм»: взгляд через годы)", комментарии и мнения людей о произведении.