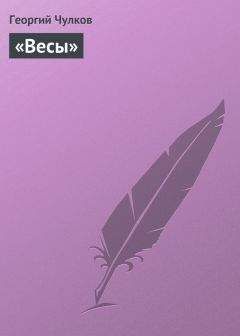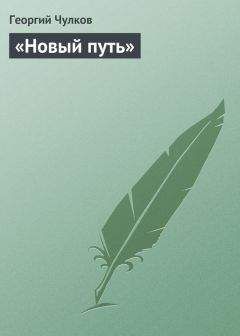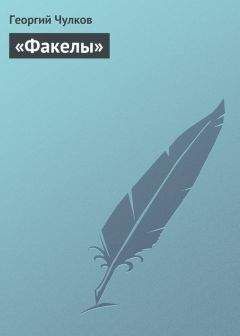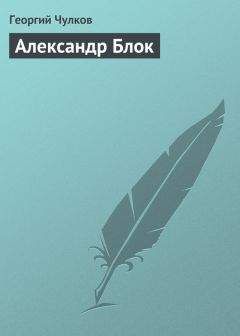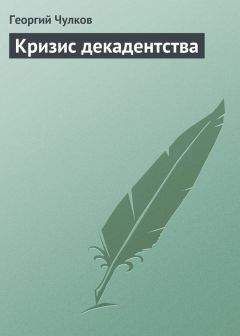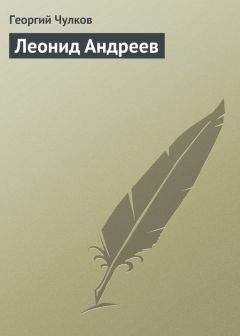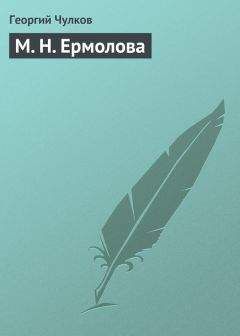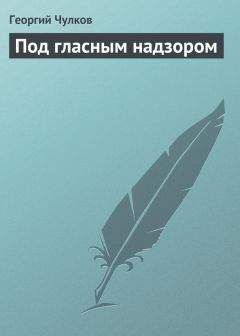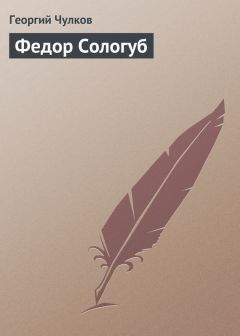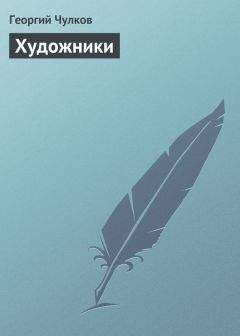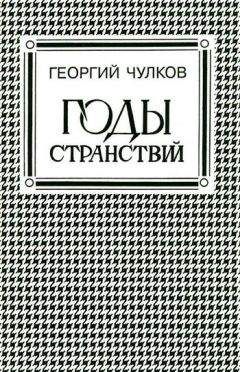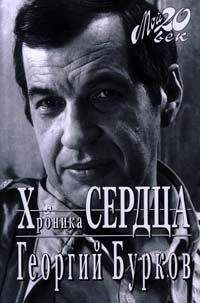Георгий Чулков - Жизнь Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь Пушкина"
Описание и краткое содержание "Жизнь Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Георгий Чулков — известный поэт и прозаик, литературный и театральный критик, издатель русского классического наследия, мемуарист — долгое время принадлежал к числу несправедливо забытых и почти вычеркнутых из литературной истории писателей предреволюционной России. Параллельно с декабристской темой в деятельности Чулкова развиваются серьезные пушкиноведческие интересы, реализуемые в десятках статей, публикаций, рецензий, посвященных Пушкину. Книгу «Жизнь Пушкина», приуроченную к столетию со дня гибели поэта, критика встретила далеко не восторженно, отмечая ее методологическое несовершенство, но тем не менее она сыграла важную роль и оказалась весьма полезной для дальнейшего развития отечественного пушкиноведения.
Вступительная статья и комментарии доктора филологических наук М.В. Михайловой
Текст печатается по изданию: Новый мир. 1936. № 5, 6, 8—12
Итак, в семействе Раевских не все было ладно, и Пушкин, быть может, напрасно завидовал сомнительному благополучию этого дома. Александр Раевский был «демоном» семьи. Когда спустя три года Пушкин написал свое обратившее на себя внимание стихотворение «Демон»[447], все знавшие Александра Раевского решили в один голос, что поэт дал именно его характеристику в этой своей примечательной пьесе. Но Пушкин отрицал это, справедливо полагая, что его демон значительнее и умнее, чем этот самолюбивый молодой полковник. Существует портрет Александра Раевского. Художник сделал его красивым, но современники уверяют, что он был худой, костлявый, с небольшой головой, с лицом темно-желтого цвета, со множеством морщин и складок. У него на губах была постоянно саркастическая улыбка. Маленькие изжелта-карие глаза его были насмешливы. Он носил очки. Несмотря на некрасивую внешность, ему удавалось покорять женские сердца. При этом, кажется, он не брезговал никакими средствами для достижения своей цели. В этом пришлось убедиться Пушкину позднее, когда они жили в Одессе.
Когда Раевские и Пушкин покинули Кавказ, Александр Раевский остался гам, продолжая курс лечения.
В Гурзуфе Пушкин наслаждался южной природой «со всем равнодушием и беспечностию неаполитанского лаццарони[448]». Он любил, проснувшись ночью, слушать шум моря. Он заслушивался им целыми часами. В двух шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро он навещал его и «к нему привязался чувством, похожим на дружество».
Так в семье Раевских Пушкин прожил три недели, «счастливейшие в его жизни». В первых числах сентября Пушкин со стариком Раевским покинули Гурзуф. Они ехали верхом по западной части берега, а потом горными тропинками. Иногда им приходилось карабкаться по скалам, держа за хвост татарских лошадей. Это забавляло Пушкина и «казалось каким-то таинственным восточным обрядом». Они посетили Георгиевский монастырь[449]. Пушкин видел баснословные развалины храма Артемиды[450]. Поэт вспомнил предание об Ифигении[451], которая спасла своего брата Ореста[452] и его самоотверженного друга Пилада, обреченных на казнь за попытку похитить статую богини. «Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, — признавался Пушкин спустя четыре года, — по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами». Однако некоторые сомневаются, что послание к Чаадаеву («К чему холодные сомненья…») написано в самом деле в 1820 году, как утверждал сам поэт. Едва ли эти сомнения основательны. Содержание пьесы соответствует тому душевному строю, о котором Пушкин свидетельствовал несколько раз, вспоминая о тишине и «умилении», усыпивших его сердце на Южном берегу. Мы теперь знаем, как непрочно было это сердечное «умиление» и какие страстные бури увлекли его снова на опасный путь. Но тогда он верил, что «вражда свирепой Эвмениды[453]» побеждена «святым торжеством» любви и дружбы. Два года до того он предлагал Чаадаеву написать их мятежные имена «на обломках самовластья», а теперь он их пишет «на камне, дружбой освященном».
Из Георгиевского монастыря путешественники отправились в Бахчисарай. Туда Пушкин приехал больной. Его мучила лихорадка. Он увидел здесь фонтан Слез[454] — «странный памятник влюбленного хана».
8 сентября Пушкин был уже в Симферополе. Семья Раевских ехала в экипажах другим путем. 21 сентября Пушкин был уже в Кишиневе, куда перевели попечительный комитет о колонистах и где проживал теперь генерал Инзов, временно исполнявший обязанности начальника Новороссийского края.
Крым. Гурзуф. К. Ф. Кюгельген. 1824
Глава шестая. КИШИНЕВ
I
В Кишиневе Пушкин поселился со своим Никитою в небольшом домике в три окошка. Вокруг домика росли акации, под окнами на грядках цветы. «Теперь я один в пустынной для меня Молдавии», — писал он брату 24 сентября 1820 года, значит, на третий день по приезде в Кишинев. В письме, однако, упоминает он о Михаиле Орлове, с которым он познакомился в Петербурге. Поэт знал его как «арзамасца», но он не знал, что этот самый М. Ф. Орлов, бывший тогда в Кишиневе командиром 16-й дивизии, — один из вождей «Союза благоденствия». Он не знал этого, а это было важно, потому что благодаря знакомству с Орловым у Пушкина завязались отношения и с другими заговорщиками. Так он познакомился и с майором В. Ф. Раевским[455], «первым декабристом». В эти же дни познакомился он с братом Орлова, Федором Федоровичем[456], бретёром, кутилой, участником Отечественной войны, потерявшим ногу в одном из сражений. Федор Орлов не был членом «Союза благоденствия», и братья смотрели на него как на человека легкомысленного. Впоследствии, замышляя «Русский Пелам»[457], Пушкин хотел сделать его героем этого приключенческого романа. Здесь, в Кишиневе, вскоре после приезда у Пушкина случилась с этим Федором Орловым трагикомическая история. Дело было в ресторане какого-то Гольды[458], где Пушкин был в обществе Орлова, полковника А. П. Алексеева[459] и И. П. Липранди[460]. Орлов с Алексеевым играли на бильярде. Пили сначала портер[461], а потом жженку[462] все четверо. Охмелевший Пушкин стал мешать игрокам, а когда они обозвали его «школьником», немедленно спутал им шары и вызвал обоих на поединок. В десять часов утра противники должны были встретиться. Но многоопытный Липранди сумел уладить недоразумение, и поединок не состоялся к общему удовольствию. Это было, кажется, первое из многочисленных кишиневских приключений Пушкина.
В двадцатых годах прошлого века Кишинев не был похож на прочие российские города. Здесь все было неожиданно и своеобразно. По-русски говорили одни только солдаты. Население состояло из румын, греков, евреев, турок, украинцев, болгар, итальянцев… В кофейнях сидели восточные люди в фесках[463] и чалмах. По узким и кривым улицам разъезжали боярские рыдваны и крестьянские каруци[464], запряженные цугом[465]. Изредка можно было увидеть венскую коляску, в которой сидел русский генерал. Греко-румынская аристократия, имевшая претензии на европеизм, говорила на дурном французском языке и старалась придерживаться парижских мод, но это не удавалось, и бородатые молдаване по привычке поджимали ноги на своих топчанах, а дамы, надев европейские туалеты, кутались в свои пестрые шали. Стол был восточный. Цыгане-повара приготовляли плацынды[466] и каймаки[467]. Гостей угощали шербетом.
Пушкин любил «шум и толпу». За отсутствием таких салонов, какие он посещал в Петербурге, пришлось ужинать, играть в карты и танцевать у молдаван. Это было не очень забавно, и Пушкин развлекался легкими романами и сомнительными авантюрами с кишиневскими дамами. Элегическое раскаяние в порочных заблуждениях «минутной младости»[468], в котором Пушкин признавался самому себе ночью, на палубе брига, подъезжая к Гурзуфу, как будто прошло бесследно. Кишиневская жизнь поэта была полна таких увлечений и приключений, что петербургские его грехи казались теперь детскою шалостью. Тогда Пушкин весело кутил с гусарами, не очень задумываясь: теперь у Пушкина был уже какой-то душевный опыт, который обязывал ко многому: он узнал какое-то «счастье» в целомудренной тишине, и несмотря на это, он снова предался всем своим страстям, но теперь эти страсти не были такими ребяческими, как в дни его дружбы с Кавериным. Недаром он зачитывался «Чайльд-Гарольдом» Байрона. Пушкин был разочарован. Он был недоволен жизнью, которая сложилась, как ему тогда казалось, нелепо и безобразно. Почему он, поэт, не может располагать своим дарованием, своими силами, своею волею? Почему он должен жить там, где ему предуказано петербургскою властью? Почему он связан каким-то смешным обещанием Карамзину не писать против правительства по крайней мере два года? Не ясно ли, что Пушкину надлежит быть в центре страны, следить за движением политической и литературной жизни, видеть всех примечательных людей, восхищаться прелестными хозяйками столичных салонов и пленять сердца? А ему приходится сидеть в ничтожном Кишиневе, где-то на окраине государства и даже иногда брать из канцелярии Инзова какие-то старые законодательные акты Бессарабии, написанные по-французски, и переводить их на русский язык. На это, правда, приходится тратить очень мало времени. Добрейший генерал Инзов его не торопит, но и это малое обязательство кажется Пушкину ненужным и смешным. Пушкин, раздраженный своим пленом, вел образ жизни, обращавший на себя внимание кишиневского «общества» и даже многих пугавший. Такова судьба беспокойных и свободолюбивых душ. Кутежи Байрона в Ньюстедском аббатстве[469], его конфликт с чопорным общественным мнением, его странный брак с мисс Мильбанк[470]; скандальный развод и добровольное бегство из старой Англии все это привело его в конце концов к свободному скитанию по чудесным странам, где он мог наслаждаться материальной независимостью, искусством, любовью и далее участвовать в политических событиях так и в такой мере, как это отвечало вкусам и пристрастиям его капризного ума. Почему же он, Пушкин, лишен всех этих наслаждений? Почему Байрона обожали такие дамы, как Каролина Лем[471], герцогиня Оксфордская[472], графиня Тереза Гвиччоли[473], а ему, Пушкину, приходится пребывать в обществе раскрашенных кишиневских «кукониц»[474], из коих самая прелестная, Пульхерия Егоровна Варфоломей[475], была до странности похожа на куклу, ко всему равнодушную, и поддерживала разговор со своими поклонниками только двумя фразами: «Ah, quel vous etes!»[476] или «Qu'est се que vous badinez?»[477].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь Пушкина"
Книги похожие на "Жизнь Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Чулков - Жизнь Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Жизнь Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.