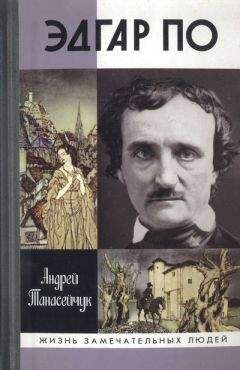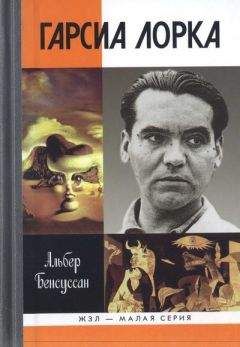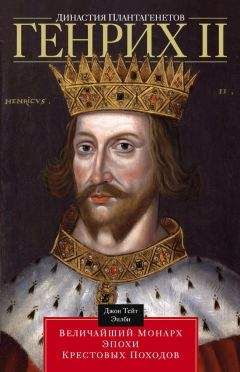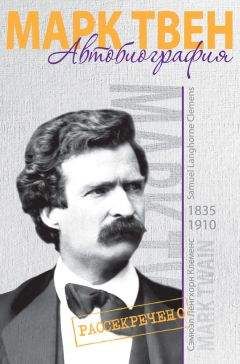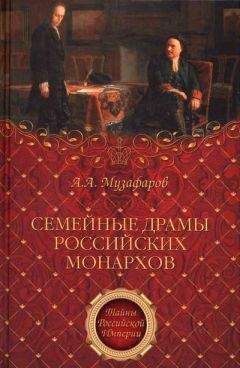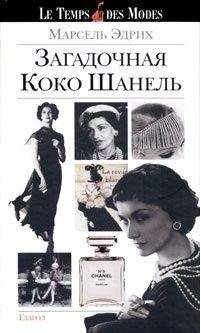Ирена Желвакова - Герцен
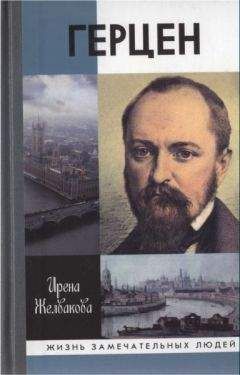
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Герцен"
Описание и краткое содержание "Герцен" читать бесплатно онлайн.
Автор жизнеописания Герцена — бессменный руководитель Дома-музея А. И. Герцена, историк, переводчик и литератор И. А. Желвакова — поставила перед собой непростую задачу — достоверно, интересно и объективно рассказать о Герцене. Ведь им самим создана блестящая автобиография — «Былое и думы», а жизнь писателя и его литературное творчество давно стали предметом исследований в многочисленных книгах и научных трактатах.
И. А. Желвакова привлекла новые документы, изобразительные материалы, семейные реликвии, полученные ею в дар для музея от зарубежных потомков писателя; сопоставила концепции и факты, правдиво дополнив биографию Герцена, и непредвзято, без идеологического тумана, рассмотрела его жизнь и судьбу. В результате перед нами не персонаж из учебника, а живой, страстный и очень красивый человек феноменальных способностей, окруживший себя столь же одаренными, нестандартно мыслящими людьми. Через всю свою жизнь Герцен пронес идеал свободы личности, хотя видел, как «мрак превращается в небесный свет» и… наоборот.
<…> Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.
Станкевич, тоже один из праздных людей, ничего не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский».
В университетские годы из-за разницы направлений — абстрактно-философского и заостренно-политического, кружки Станкевича и Герцена, как помним, не слишком идейно ладили, да и симпатии между ними не наблюдалось. Теперь предстояло эту стену разрушить, что было не просто.
Личное знакомство Герцена с Виссарионом Белинским произошло в конце лета — начале осени 1839 года, незадолго до возвращения герценовского семейства во Владимир (30 сентября). Вериги службы не были с него сняты: он чиновник особых поручений при владимирском гражданском губернаторе. Тогда Герцену не удалось вволю поспорить с Белинским, тоже уехавшим из Москвы. Суть расхождений была слишком значительной и очевидной, чтобы все решать на ходу. К тому же время и новые публикации критика в «Отечественных записках» давали повод для продолжения резкой полемики и вызывали серьезные размышления о поколении.
Герцен писал в середине ноября 1839 года Огареву, настоятельно советовавшему ему познакомиться ближе с философией Гегеля: «Ни я, ни ты, ни Сатин, ни Кетчер, ни Сазонов… не достигли совершеннолетия, мы вечно юные, не достигли того гармонического развития, тех верований и убеждений, в которых бы мы могли основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать. <…> Сколько раз, например, я и ты шатались между мистицизмом и философией, между артистическим, ученым, политическим, не знаю каким, призванием. <…> Грех нам схоронить талант, грех не отдать в рост, иначе мы ничего не сделаем, а можем сделать, право, можем. <…> Подумай об этом и пойдем в школьники опять, я учусь, учусь истории, буду изучать Гегеля, я многое еще хочу уяснить во взгляде моем и имею залоги, что это не останется без успеха. <…> Кончились тюрьмою годы ученья, кончились с ссылкой годы искуса, пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического. Между прочим меня повело на эти мысли письмо Белинского к Сатину (с которым я, однако, не вовсе согласен, Белинский до односторонности многосторонен)…»
Суть вопроса в спорах сторон заключалась в тезисе Гегеля, выхваченном из его трудов: «Все действительное разумно».
Герцен объяснил, что эта философская, «дурно понятая фраза Гегеля», наделавшая всего больше вреда и на которой «немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии… сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла:
„Нет власти, как от Бога“». Все сводилось к непротивлению, «к признанию предержащих властей», а человеку оставалось одно — сидеть пассивно, «сложа руки».
Белинский «проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы».
Герцен парировал: «Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?
— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне „Бородинскую годовщину“ Пушкина.
Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. <…> Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал „Бородинской годовщиной“».
Восторженный отзыв Белинского о стихотворении Пушкина и других его «патриотических» стихах в подтверждение своему ложному тезису о необходимости примирения с действительностью (временное заблуждение вскоре будет ясно и самому критику) вызвал резкое неприятие Герцена. Несмотря на безоговорочное преклонение перед памятью поэта, он не мог согласиться с его трактовкой событий вокруг Польского восстания 1831 года, подхваченной тогда большинством общества.
Встреча и спор Герцена с Белинским в Петербурге между 18 и 23 декабря 1839 года лишь усилили и обострили непримиримость противников. «Отчаянный бой» разразился с новой силой. Цикл статей критика в журнале «Отечественные записки» конца 1839-го — начала 1840 года и, в частности, «Бородинская годовщина» (1839, № 10) стали результатом этой резкой полемики.
Тридцатого декабря перемирие еще не достигнуто, хотя взгляд критика несколько «смягчился»: «Умный, добрый, прекрасный человек, но если б Бог привел больше не видеться — хорошо бы».
Некий малообъяснимый «зигзаг» в жизни отважного борца, «неистового Виссариона», пытался объяснить вдумчивый летописец «замечательного десятилетия» 1830–1840-х годов П. В. Анненков: «Есть причины полагать, что годы 1836–1837 были тяжелыми годами в жизни Белинского. Мне довольно часто случалось слышать от него потом намеки о горечи этих годов его молодости, в которые он переживал свои сердечные страдания и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни он никогда не выдавал, как бы стыдясь своих ран и ощущений. <…> Замечательно, что эти оба года, исполненные для него жгучих волнений и потрясений, были употреблены им вместе с тем еще и на занятие философией Гегеля, которая нашла особенно красноречивого проповедника в лице одного молодого отставного артиллерийского офицера, выучившегося скоро и хорошо по-немецки и вообще обладавшего способностью к быстрому усвоению языков и отвлеченных понятий». Это был Михаил Бакунин.
Белинский, находясь в плену гегелевской формулы о разумности действительности, воспринял ненадолго и трактовку ее Бакуниным, слывшим тогда номером первым «молодежи гегельской».
Знакомство Александра Ивановича с Михаилом Александровичем произошло в начале зимы, примерно между 7 и 10 декабря 1839 года, в Москве. Бакунин, страстный, одержимый, зараженный в ту пору гегелевским идеализмом, носился тогда с теорией «духа». Все, что живет, — это только проявление духа. «Дух есть абсолютное знание, абсолютная свобода, абсолютная любовь». А если жизнь — только проявление духа, то в действительной жизни нет действительного зла, а есть необходимость и разумное благо. Отсюда заключение: «Что действительно — то разумно». А разумность действительности (в случае Бакунина — русской) ведет к примирению с нею и полному отрицанию борьбы. И даже страдания в жизни необходимы «как очищение духа». Казалось, его революционный, анархистский позыв должен был увести его «в другую сторону» (что и случилось в дальнейшем), но молодость давала свои идейные сбои.
Хотя Белинский не владел иностранными языками, у него был какой-то особенный «дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них». Этот дар, поражающий в нем, заставил Герцена заметить (как свидетельствовал П. В. Анненков), «что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение». И одним из них был русский — Белинский.
«Середь этой междоусобицы», яростных споров и неуступок, Герцен решил серьезно заняться Гегелем.
«Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая „бранденбургские ворота“. Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может, с намерением, дурно формулирована». Именно в философии Гегеля Герцен усматривал средство обоснования социалистического идеала философско-рационалистическими доводами.
Осваивая Гегеля, Герцен стал лучше разбираться в заблуждениях Белинского, которые прежде него добрейший Ник, взявшись за примирение антагонистов, назовет «переходной болезнью» критика. Новое знание Гегеля сближало Герцена и с кругом Станкевича, который вскоре должен был неминуемо распасться, выпестовав таких незаурядных и непохожих личностей, как Белинский и Бакунин, Константин Аксаков и Михаил Катков, Алексей Кольцов и Тимофей Грановский. Сам 27-летний Станкевич оканчивал свои дни тягостной болезнью, скончавшись в 1840-м возле итальянского озера Комо.
И все же первым, кому удалось преодолеть столь важное для сотрудничества и дружества идеологическое недопонимание двух противоположных станов, был Грановский.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Герцен"
Книги похожие на "Герцен" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирена Желвакова - Герцен"
Отзывы читателей о книге "Герцен", комментарии и мнения людей о произведении.