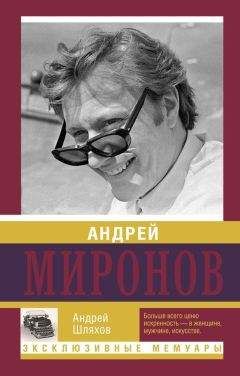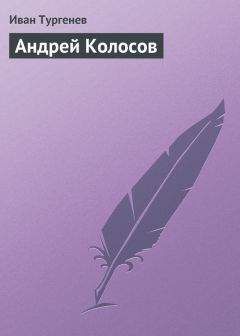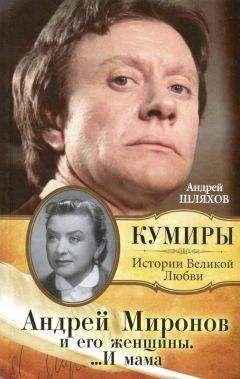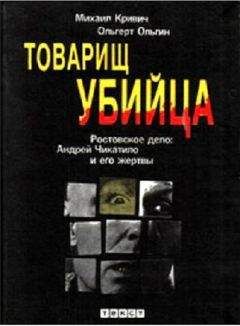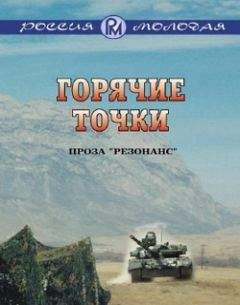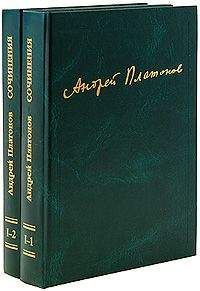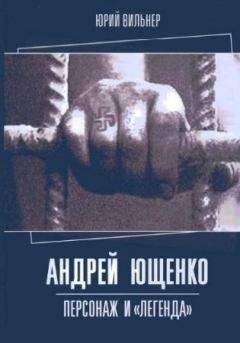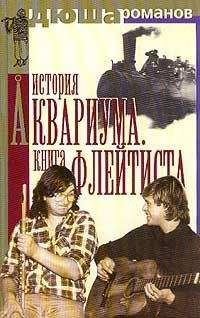Андрей Балдин - Протяжение точки
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Протяжение точки"
Описание и краткое содержание "Протяжение точки" читать бесплатно онлайн.
Преподобный Серафим был миссионером, пограничником веры; арзамасский духовный предел — самое для него место. Он и пришел сюда для того, чтобы шагнуть с этого предела далее на юг, следом за адмиралом Ушаковым и его дядей: в глубину иного «моря». Его Саров и Дивеево были и остаются важнейшими пунктами крещения Руси; отсюда берется определенное духовное напряжение этих мест. Это вовсе не глубинка и тем более не сердце христианской России — это ее передовой край.
Существенное, пограничное напряжение духа сохраняет здесь силу и теперь. Тогда же — вспомним Дмитрия Блудова (кстати, современника преподобного Серафима: еще один не вызывающий доверия исторический факт) — языческий лес подступал к самому Арзамасу. Колдовство его сохранялось в полной силе — неудивительно, что заезжий путник мог, едва шагнув в его дебри, заблудиться на несколько дней. Счастье было для Блудова, что он спасся в Арзамасе. Тогда достаточно точно ему дало знать о себе его внутреннее «римское» чувство, — бежав из варварского леса, ступив в Арзамас, он вернулся в лоно цивилизации, оставив позади себя нети язычества и еще не остывший хаос пугачевского бунта.
VIII
Мы вовремя вспомнили о Блудове. Он также здесь, в Арзамасе, не случаен, он выступает как характерная, узнаваемая фигура. После усмирения «морского» бунта Пугачева явилось новое поколение московских людей — его, Дмитрия Блудова, поколение. Явилось — и перевернуло русскую страницу как будто вверх ногами. Искатели Царьграда, «южане», десантники и миссионеры Екатерины в одночасье оказались людьми вчерашнего дня, безнадежными архаиками.
И Арзамас переменился, перевернулся в своем значении вверх ногами.
Тут в очередной раз обнаруживается «стереометрическое» различие между двумя этими поколениями, ярко себя проявляющее в конкретной, перманентно конфликтной точке Арзамаса. Десантники Екатерины, опираясь на эту точку, наступали по карте сверху вниз. Их Арзамас, христианский форпост, был местом спасения из мордовского (духовного) плена Дмитрия Блудова.
Их Арзамас спас Блудова. И что же? В ответ, в благодарность за спасение он посмеялся над Арзамасом.
Он устрашился его, сделал его имя нарицательным. Он и его поколение, и с ними новый, центростремительный, «меньшой» русский язык — отступили от Арзамаса в Москву. Их отцы шагали через арзамасскую границу в море, шли по его «дну» (по лесу и по низу), крестили «дно» (лес). Эти же — побежали от границы как можно дальше, в центр московского «материка», в столицу, на вершину бумажной царь-горы.
На пределе Арзамаса два поколения повели себя полярным образом. Между собой они образовали ступень, родственную арзамасской.
* * *Так постепенно на «берегу» Арзамаса собираются география и история, собираются в искомое единораздельное целое — и достаточно определенно обозначает себя бегущая от этого «берега» в Москву новая отечественная литература. Или так: наша бульшая литература обнаруживает в себе партии «разно говорящих» поколений; она неявно обозначает пульс слова — разнонаправленные векторы тянут его в разные стороны, вовне и внутрь, от Москвы и в Москву.
Большее слово склонно к пульсу; беда в том, что мы говорим на «меньшом» языке и потому наша память оставляет нам большей частью сюжеты сжатия, бегства «Арзамаса» от Арзамаса.
Наша память об этом этапе русской истории раздвоена: одной половиной вспоминаем «Арзамас» Пушкина, другой — Арзамас и Серафима Саровского.
* * *Не просто две половины мира здесь видны, христианская и языческая; так поделить территорию было бы просто; собственно, она давно была так поделена. Нет, все сложнее: это внутренний, общий, сказавшийся во всякой области сознания ментальный разлом. Русские христиане, люди Второго и Третьего Рима («арзамасцев» можно с уверенностью записать в Третий, московский Рим) на этом пределе ведут себя по-разному, обнаруживая склонность: одни — к наступлению, другие — к бегству.
Это двоение может преодолеть только большее, объемлющее целое: наша объединенная историческая память (что такое эта память?), собирающая свои половинки вместе. Путь из перманентного ментального конфликта может найти только новое, на порядок раздвинутое русское сознание (что такое это раздвинутое сознание?), принимающее диалог, а не фатальное противостояние «арзамасских» поколений, встречно направленных духовных стрелок.
IX
Понятно теперь, отчего так зябко ощущает себя в Арзамасе нежное столичное слово. Не случайно так демонстративно отстранился от реального Арзамаса основатель «Старого Арзамаса» Дмитрий Блудов. Он весь, с головой, принадлежит новому поколению, бумажному, литературному, заменяющему пространство словом. Его путешествие 1811 года закономерным образом было перевернуто в сказке 1815 года: Дмитрию Николаевичу довольно было только оглянуться из столицы на этот медвежий угол, не знающий сторон света, обладающий из всех достоинств цивилизации одним только гусем с клюквой, чтобы задним числом устрашиться, сжаться душой «по-московски».
Отсюда, из столицы, с вершины бумажной горы он не мог различить другого Арзамаса, в нем Федора Ушакова и Серафима Саровского. Если он и знал о них, то примерно то же, что об адмирале Шишкове, — все это «старина», ненужная, невидимая старина.
* * *Некоторые повороты в арзамасском манифесте Блудова 1815 года в «пространственном» плане весьма занятны.
Эпиграфом к этому манифесту он выбирает французское изречение.
Le vrai peut quelquefois n’иtre pas vraisemblable. «И правда иногда на правду не похожа». Поди разберись в этом кульбите смысла и звука.
Quelquefois. Vraisemblable. Экие завитые слова. Блудов, наверное, специально их употребил, чтобы лишний раз взбесить старцев из «Беседы». (Нетре па) вресаблябль! (Не похож!). Для них это было готовое ругательство.
Для него это был изящный кульбит, переворот смысла: так этот новый сочинитель уходит из реального пространства в текст.
Так столичный сочинитель переходит с географической карты на страницу с текстом. Характерное «московское» действие: заклинание пространства словом, упаковка его в текст. Текст от этого уплотнения, перенаселения бегущим словом цветет намеками, фантомами пространства. Он намекает на море (смысла), на деле же играет сам собой, существует «анаэробно», безвоздушно.
Такому сочинителю необходим настоящий Арзамас только как повод к игре, как провокация столичного разума.
Подобного рода литератор не видит реальной карты своего отечества. Зато язык его становится самодостаточным «отечеством».
Так оно и было: этот язык на первом же этапе своих метаморфоз замкнулся сам на себя, нарисовался новою страной — и отвернулся от реальной (опасной) русской карты. Вместо нее он принялся писать сказку. В таком переводе этот новый язык оказался всеяден; он принял и колдовской финский лес — именно так, поставив такие знаковые слова: не «дикий» и «мордовский», но «колдовской» и «финский».
Сразу слышно балладу Жуковского — это и сделал Жуковский: представил страшные мордовские чащи вполне себе европеизированным, «нестрашным» финским лесом.
Зачем сказочному слову бороться с финским лесом? Сказка, как и лес, отвергает твердые направления. Она в них играет.
* * *Пушкин в этой игре составляет исключение: он смотрит из бумаги вовне, не страшится реальной карты — на то он и Пушкин. Но это относится к Пушкину, уже повзрослевшему, выросшему из «арзамасских» одежд.
X
Понятно после этого, чему в свое время ужаснулся в Арзамасе Лев Толстой. Он был более, чем кто-либо другой, характерный «московский» писатель. Толстой — наследник тех юных литераторов, насмешников и пересочинителей, бежавших из Арзамаса в «Арзамас», из пространства — на бумагу. Он много превзошел их в литературном колдовстве: у него под пером самая бумага стала новым пространством. Но это не отменяет его «московских» склонностей и ментальных предпочтений, напротив, в его поколении они только усилились, стали нормой.
То, что пережил Толстой в Арзамасе, было странное и вместе с тем самое характерное здешнее происшествие.
Это случилось в сентябре 1869 года. Толстой едет в Арзамас [36] — настоящий, не выдуманный сказочником Дмитрием Блудовым. Добирается до места ночью, поселяется в гостинице — кстати, ему сразу не понравилась эта гостиница, в которой комнаты как-то неприятно квадратны, — этой же ночью просыпается и вдруг понимает, что провалился в какую-то темную бездну. Вокруг все черно, и в этой черноте сидит смерть, от которой нет защиты. Смерть сидит в комнате за столом, и нет у него, Толстого, силы, нет слова, которое оборонило бы его от нее.
«Географически» тут все просто: Толстой вышел на предел, на «берег», на котором заканчивается московское (намоленное, наговоренное) помещение веры. Ему открылось за границей Арзамаса просто пространство: необъятная лесная пустыня, мир без слов. На этом пределе двоится ментальное русское целое: третий Рим отступает от него в Москву, второй движется дальше — на юг, на лес. Дальше допущено идти только миссионеру, крестителю леса, который несет с собой христианское пространство. Носителю же московского слова Льву Толстому неизбежно станет пусто на этом пределе, так пусто на душе, что сама собой явится мысль, что нет ничего, кроме смерти.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Протяжение точки"
Книги похожие на "Протяжение точки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Балдин - Протяжение точки"
Отзывы читателей о книге "Протяжение точки", комментарии и мнения людей о произведении.