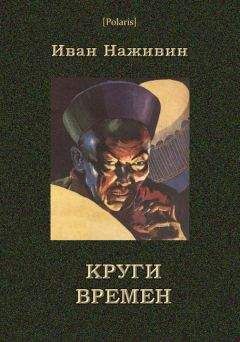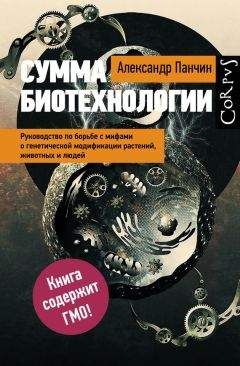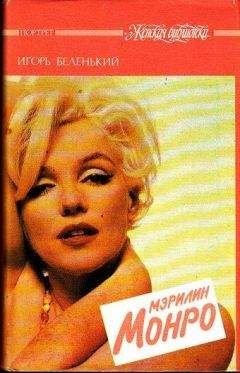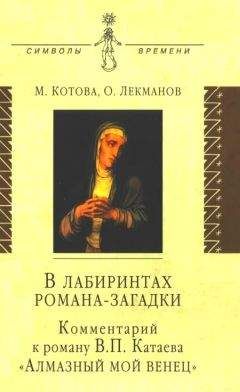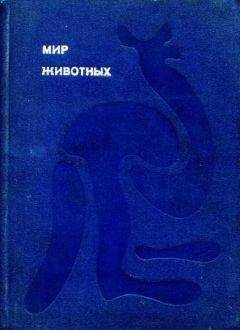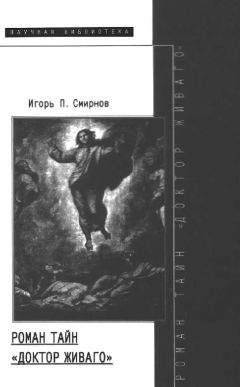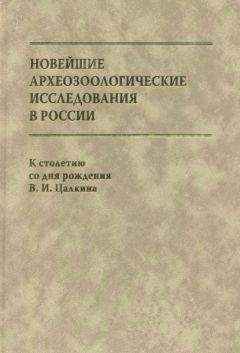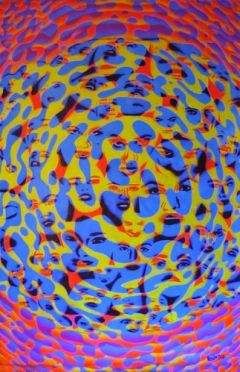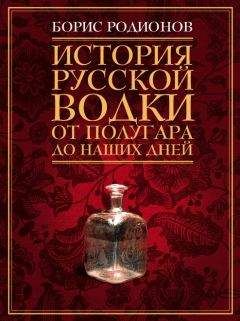Игорь Вишневецкий - «Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов
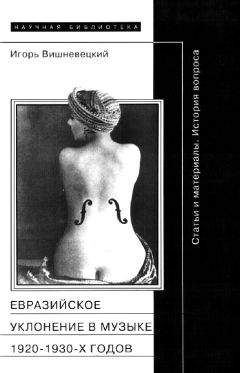
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов"
Описание и краткое содержание "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов" читать бесплатно онлайн.
В центре исследования Игоря Вишневецкого (и сопровождающей его подборки редких, зачастую прежде не публиковавшихся материалов) — сплав музыки и политики, предложенный пятью композиторами — Владимиром Дукельским, Артуром Лурье, Игорем Маркевичем, Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, а также их коллегой и другом, музыкальным критиком и политическим публицистом Петром Сувчинским. Всех шестерых объединяло то, что в 1920–1930-е самое интересное для них происходило не в Москве и Ленинграде, а в Париже, а главное — резкая критика западного модернистического проекта (и советского его варианта) с позиций, предполагающих альтернативное понимание «западности».
Карта Сарматии (уменьшено) из книги
Notitia Orbis Antiqui sive Georgaphia Plenior…
Illustratuit auxit L. Io. Conradus Schwartz, Eloq. à Graec. Ling. P. P. O. in Caliniriano
Lipsiae: Apud Ioh. Friderici Gleditschii, B. Fil., MDCCXXXL.
From the American Geographical Society Library,
University of Wisconsin — Milwaukee Libraries
Следует отметить, что к моменту издания разбираемой нами карты самоидентификация с географически и культурно переходной «Сарматией» давно уже стала общим местом в мироощущении правящего слоя Речи Посполитой — украинской и польской шляхты, составлявшей до 10 % населения страны. Так называемый «сарматизм» (sarmatyzm по-польски) проник и в литературу, и в покрой одежды (скопированный шляхтой у этнически близких сарматам персов), и в идеологию конфедеративного королевства-республики. И хотя собственно «сарматские» земли отошли к моменту издания карты к России, господствующего положения «сарматизма» как идеологии это не пошатнуло. Еще в XV в. Ян Длугош считал «сарматами» как собственно «поляков», так и «русинов». Первое известное мне упоминание Сарматии как культурной концепции в восточнославянской художественной литературе встречается в стихотворной надписи 1632 г. на клейнот (герб) литовско-украинских князей Корибут-Вишневецких. Один из них, Димитрий Иванович, известный также под прозвищем Байда (т. е. «двухпарусная лодка»), ушел с казачьим войском в Азиатскую Сарматию, где прославился в 1550-е годы рядом военных авантюр, был недолгое время и на московской службе; другой, Михаил, в 1669 г. будет избран королем (по-современному президентом) Польской Речи Посполитой. Как это и свойственно барочному сознанию, безымянный киевский стихотворец вписывает историю неспокойной семьи в античный мифологический контекст. В стихах упомянуты «Фортуна», «Юно», «Апольлио», «Харитес», «Марс» (кажется, лишь последний по полному праву; сходное вписывание в античность попробует осуществить с русской и евразийской историей в своих вокально-оркестровых композициях Дукельский), а заключается стихотворение характерным восклицанием: «О значна Савроматов з Вышневецких Слава!»[67]
Но подлинный расцвет сарматская тема обретает в польскоязычной поэзии XVII в. В позднейшей литературе стало хорошим тоном порицать сарматизм за культурную ксенофобию, чванство мифологическим прошлым (как будто есть что-нибудь сильнее мифа!), недооценку плодов цивилизации. Академическая история польской литературы, подготовленная в 1960-е годы московским Институтом славяноведения и балканистики, содержит фразу, которая бы истинно повеселила кн. Н. С. Трубецкого и многих евразийцев, ибо почти слово в слово повторяет позднейшие аргументы против собственно евразийского мироощущения: «Сарматизм возводил в норму изоляцию от передового европейского идеологического и культурного развития, стал оправданием социально-бытового консерватизма» (Л. B. Разумовская, Б. Ф. Стахеев)[68].
Обо всем этом стоит помнить, когда речь пойдет о порубежном по отношению к полюсам «Европы» (чистый Запад) и «Азии» (чистый Восток) самосознании музыкального евразийства.
2. Теория и практика музыкального евразийства у Артура Лурье:
критический взгляд на Запад с Востока
Обращение бывшего скрябинианца и футуриста Артура Лурье в евразийцы имело свою предысторию. Как мы уже упомянули, еще в 1914 г. он вместе с Б. К. Лившицем (тоже уроженцем Украины) и Г. Б. Якуловым составляет манифест «Мы и Запад», прочитанный и опубликованный в связи с приездом в Петербург итальянского футуриста Маринетти. В развернутой форме, как доклад, манифест «Мы и Запад» был оглашен Бенедиктом Лившицем на заседании в зале Шведской церкви в Санкт-Петербурге 11 февраля 1914 г., проходившем под председательством лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ. В докладе, в частности, говорилось об отсутствии в русском искусстве «посредствующих звеньев между материалом и творцом» (т. е. о совпадении субъекта и творимой им художественной формы, об их изоморфности), о строительстве русского искусства «на космических началах» (что, очевидно, следует понимать как неподчиненность человеческому регламенту и стихийность) и, наконец, вполне в духе будущих политических заявлений евразийцев — о том, что, «только осознав в себе восточные истоки, только признав себя азийским, русское искусство вступит в новый фазис и сбросит с себя позорное и нелепое ярмо Европы — Европы, которую мы давно переросли»[69]. Заявления о необходимости развернуться «лицом к Востоку» не были такими уж новыми: они звучали еще за без малого полвека до того из уст Владимира Стасова (1824–1906), в работе «Происхождение русских былин» (1868) утверждавшего, что «былины заключают более всего сходства с поздними и буддийскими восточными первообразами, и преимущественно с поэтическими созданиями восточных народов, географически близких к Руси»[70]. Стасов даже настаивал на том, что сюжеты русских былин, скорее всего, восходят к древнеиндийской и тибетской литературе (и, как следствие этого, поражают странным смешением индуистских и буддийских элементов), а поведение героев-богатырей и их обычаи прямо позаимствованы из тюркского и монгольского эпосов, подвергшихся, в свою очередь, сильнейшим индо-иранским и тибетским влияниям. Это приводило Стасова к довольно радикальному выводу о пропасти, лежащей между, с одной стороны, письменным древнерусским эпосом — в лице «Слова о полку Игореве», с другой — устным эпосом остальных славянских народов (сербов, болгар и др.), близких славянам германцев и даже окруженных славянами и германцами и многое у них позаимствовавших западных угрофиннов, — и самими русскими былинами. Незаимствованных образцов народного творчества следует, по мнению Стасова, искать лишь в малых формах фольклора, «которые издревле существуют в среде нашего народа и многими столетиями предшествовали появлению у нас былин с их монголо-тюркскими формами. Это — песни обрядные, хороводные, свадебные, заплачки, заговоры, загадки, пословицы и т. п.»[71]. В исследовании же «Русский народный орнамент (шитье, ткани, кружева)» (1872) Стасов настаивает на необходимости отделения русского народного декоративного искусства от декоративного искусства Украины и южных славян, несмотря на общее языковое и религиозно-мифологическое наследие (язычество, а затем и греческое православие). По мнению Стасова, русское народное искусство было сформировано в нынешнем виде в XIII–XIV вв. под сильнейшим финноугорским («восточным финским», как он называет его) и индо-иранским («персидским» в терминах Стасова) влиянием, причем последнее для Стасова намного очевиднее и сильнее:
Русская орнаментистика — это позднее эхо орнаментистики азиятской, это уцелевший осколок древнего мира, но осколок значительно попорченный, сокращенный и, что хуже, такой, значение которого давным-давно потеряно для употребляющих орнаментистику[72].
Спорить со всем этим трудно: колонизуя новые территории, русская нация вбирала в себя и финноугорское (Москва и окрестные земли), и индо-иранское (от Донских степей до Алтая), и, конечно, монголо-тюркское (еще со времени первого нашествия Золотой Орды) наследие. Главное же в установках Стасова то, что «Новая русская музыкальная школа», провозвестником и защитником которой он вскоре станет, несла в своем творчестве, вместе с возвратом к национальности, и сильный «восточный» элемент, завязанный на том, что питающая новую русскую музыку культура непрофессионального исполнительства оставалась жива в стране (в то время как Вагнер, по мнению Стасова, вынужден был ее реконструировать)[73]. Таким образом, утверждения Лурье прямо наследуют народническому протоевразийству Стасова, хотя последний и прославился как защитник «реализма», а первый — как последователь, а затем жесткий критик «модернизма».
Собственно евразийские сочинения Лурье — это статьи в сборниках «Версты» (Париж, 1926–1928), выходивших, как заявлено на их обложке, «под редакцией кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова», почти все (за исключением очерка о Клемперере) музыкальные статьи в еженедельной газете «Евразия» (1928–1929), редактировавшейся Л. П. Карсавиным, но в числе соредакторов которой был и сам Лурье, а также тематически связанные с ними статьи в «Modern Music», «The Musical Quarterly», «Числах» и даже — намного позднее — в «Новом журнале», «Воздушных путях» и во франкоязычной книге «Поругание и освящение времени: Музыкальный дневник за 1910–1960 гг. (Profanation et sanctification du Temps: Journal musical 1910–1960)»[74]. Это следующие тексты: «Соната для фортепиано Стравинского» (1925)[75], «Музыка Стравинского» (1926)[76], «Две оперы Стравинского» (1924–1927)[77], «По поводу „Аполлона“ Игоря Стравинского» (1927)[78], «Неоготика и неоклассика» (1928)[79], «Кризис искусства» (1928)[80], «О Рахманинове» (1928)[81], «Бела Барток» (1929)[82], «О мелодии» (1929)[83], «Пути русской школы» (1931–1932)[84], «О музыкальной форме» (1933)[85], «О гармонии в современной музыке» (1937)[86], «На тему о Мусоргском» (1943)[87], «О Шостаковиче (Вокруг 7-й симфонии)» (1943)[88], «Линии эволюции русской музыки» (1944)[89], «Приближение к массам» (так переводится английский заголовок[90], французское название — «Народничество в искусстве», 1944[91]), «Феномен и ноумен в музыке» (1959)[92]. К евразийскому списку следует отнести и музыкальные сочинения Лурье: Concerto Spirituale для фортепиано, солистов, хора и оркестра духовых, ударных и контрабасов (1928–1929), родственный ряду сочинений Стравинского, в которых Р. Тарускин находит музыкальное преломление карсавинского учения о «симфонической личности»[93], и две сопутствующие Concerto Spirituale симфонии — «Sinfonia Dialectica» (1930), подающая музыкальную логику Запада сквозь «восточное» мирочувствование, и «Кормчая» (1939), имеющая прообразом «восточный» богородичный акафист, а также «восточно-западную» оперу-балет «Пир во время чумы» (по Пушкину, 1930-е) и более раннюю Sonate liturgique: en forme de quatre chorals pour orchestre da camera (1928; есть и версия для хора альтов, фортепиано и контрабасов). Интересна с точки зрения преломления европо-азийской проблематики и сочинявшаяся в 1949–1961 гг. опера «Арап Петра Великого» (по неоконченной повести Пушкина)[94].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов"
Книги похожие на "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Вишневецкий - «Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов"
Отзывы читателей о книге "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.