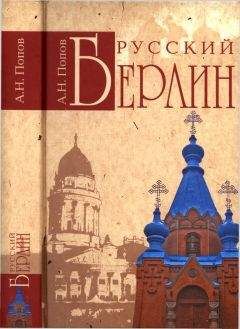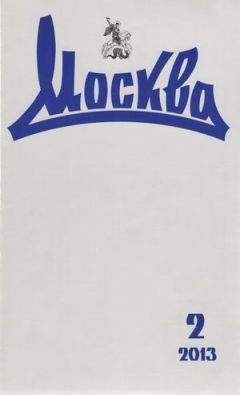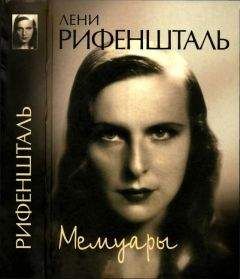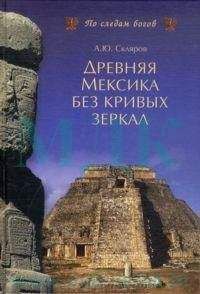Андрей Фесенко - Русский язык при Советах
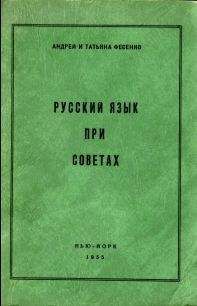
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Русский язык при Советах"
Описание и краткое содержание "Русский язык при Советах" читать бесплатно онлайн.
Но если бесчисленные и часто безобразные советские аббревиатуры и обречены на исчезновение, то это отнюдь не значит, что ходом истории будет приговорена к смерти и сама категория аббревиатур, ведь они являются достоянием не только русской Революции, а и нашей эпохи в целом. Это языковые молекулы современности. И отдельные аббревиатуры в русском дореволюционном языке («РОПИТ», «ЮРОТАТ» и др.), и многочисленные аббревиатуры в передовых современных языках – английском, французском, немецком – свидетельствуют о закономерности аббревиации, как соответствующей современному образу мышления, строящемуся, согласно удачному определению Маха, на принципах экономии. Характерно, что, издеваясь над потоком аббревиатур, хлынувших в современный немецкий язык, некий М. Л. поместил в Die Neue Zeitung, Munchen, от 15 февр. 1950 г., заметку под названием: «Despra – die neue deutsche Stiefmuttersprache». Приведя разговор со знакомым, автор, оглушенный изобилием в его речи аббревиатур, особенно инициальных, горько сетует:
«Anscheinend beherrscht er nicht mehr die deutsche Sprache, sondern nur noch eine Schrumpfform davon, die Despra» [84].
Темпы жизни создают краткую, конденсированную речь, пытающуюся минимумом формальных средств передать максимум содержания. На новой ступени здесь повторяется синкретизм первобытной речи, вмещавшей в отдельных словах целые предложения.
Проявляя незаурядную наблюдательность, Джордж Оруэлл, уже упоминавшийся выше знаменитый английский сатирик, отмечал в цитированном романе «1984» моменты, присущие советскому языку:
«…Даже в первые десятилетия двадцатого века спрессованные слова и фразы были одной из характерных черт политического языка; было замечено, что тенденция к употреблению сокращений такого рода наиболее ярко проявилась в тоталитарных странах. Примерами могут служить такие слова, как наци, гестапо, Коминтерн, инпрескор, агитпроп… Было отмечено, что такое сокращение наименования суживало и слегка изменяло его значение, исключая большинство ассоциаций, которые в противном случае были бы связаны с ним. Например, слова Коммунистический Интернационал вызывают сложную картину всеобщего человеческого братства, красных флагов, баррикад, Карла Маркса и Парижской Коммуны. Слово Коминтерн с другой стороны говорит лишь о тесно спаянной организации и о твердо установленной доктрине. Оно относится к чему-то, так же легко распознаваемому и так же ограниченному в своем назначении, как стул или стол. Коминтерн – это слово, которое можно произнести, почти не думая, тогда как Коммунистический Интернационал представляет собой фразу, над которой необходимо задержаться хотя бы на один момент». (Перевод наш – Ф., стр. 310).
Действительно, часто аббревиатура не воспринимается аналитически, в ее отдельных компонентах, и прав проф. Л. Щерба, заявляя, что:
«…никто не раскрывает себе колхоз как коллективное хозяйство, а скорее коллективное хозяйство приходится раскрывать как колхоз». («Литературный язык и пути его развития», стр. 52).
Если характернейшей внешней особенностью современного языка является его аббревиатурность, т. е. морфологически-новое оформление лексики, при котором более краткие слова несут в себе более сложное содержание, то подобный возврат к конденсации речи наблюдается и в душе языка – его строении, синтаксисе. Громоздкий гипотаксис с его многоэтажными придаточными предложениями всё больше и больше вытесняется простыми распространенными предложениями, где причастные и деепричастные обороты, не обедняя содержания предложения, детализируют основную мысль, сохраняя органическую связь общего и частного.
Отталкиваясь от, так сказать, общеэпохальных явлений в русском языке, следует несколько подробнее остановиться на его современной советской специфике, находящейся в постоянном противоречии с его национальной природой. Употребляя советскую фразеологию, мы можем сказать, что, развязав величайшую в мире революцию, русский народ развязал и свой язык. В этой буйной стихии освободились многие речевые силы. Революция разрушила средостение между языком элиты и низов, что, казалось бы, совпало со стремлениями лучших представителей русской литературы от Пушкина до Лескова, боровшихся за народность языка. Но при советах эта народность часто подменялась, да и до сих пор подменяется, нарочитой вульгаризацией, санкционированной сверху. Культивирование, особенно в первые годы Революции, вульгарного и даже «блатного» лексикона привело к сильному засорению языка. В то время как в «Тихом Доне» М. Шолохова или сельской лирике С. Есенина мы находим добротность народной речи, в поэзии Демьяна Бедного или А. Безыменского наблюдается использование худших элементов просторечия – вульгаризмов, а подчас и блатных словечек из лексики преступного мира.
Признавая, что «…небрежное, невнимательное отношение к языку, недостаточная работа над словом, неумение использовать огромную изобретательную силу слова, излишнее употребление жаргонных словечек, неумелое использование местных диалектов, необоснованное нарушение грамматического строя языка всё еще имеют место в нашей работе» (А. Чивилихин, «О языке литературных произведений», Звезда, № 11, 1950, стр. 166), советы с течением времени стали бить отбой как в отношении злоупотребления аббревиатурами, так и в отношении засорения языка вульгаризмами, арготизмами и диалектизмами.
Еще в прошлом столетии Поль Лафарг отмечал особенность языкового развития в послереволюционные периоды:
«…после революции наступила реакция, когда шлифованный язык попытался восстановить свой авторитет среди правящих классов и вытолкнуть неологизмы, ворвавшиеся в него». (La langue francaise avant et apres la Revolution, p. 42, перевод наш – Ф.).
В области нормирования языка, так же как и в других областях, большевики руководятся отнюдь не какими-либо принципами эстетики или общеполезности, а только политическим моментом. Подобная языковая политика довольно откровенно раскрыта в нашумевшем в свое время письме Максима Горького А. Серафимовичу (цит. по сборнику М. Горького «О литературе», стр. 136-37):
«…в области словесного творчества языковая – лексическая – малограмотность всегда является признаком низкой культуры и всегда сопряжена с малограмотностью идеологической, пора, наконец, понять это!
Ни один из наших критиков не указал литераторам, что язык, которым они пишут, или трудно доступен или совершенно невозможен для перевода на иностранные языки.
А ведь пролетариат Союза Советов завоевал и утверждает право свое большевизировать мир [85] (подчеркивание наше – Ф.) и литература пролетариата-диктатора должна бы – пора уже – понять свое место, свое назначение в этом великом деле…
Необходима беспощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка…»
В то время как М. Горький, говоря о необходимости следить за чистотой языка, имеет в виду распространение большевизма за рубежами СССР, уже упоминавшийся нами выше А. Чивилихин столь же откровенно говорит о необходимости «чистки» языка как одного из орудий влияния большевистской партии внутри Советского Союза:
«Борьба за чистоту, выразительность, изобразительную силу, красочность и богатство языка наших произведений и тем самым участие в дальнейшем совершенствовании языка – вот задача писателей, непосредственно связанная с трудами товарища Сталина о языке. Конечно, следует помнить, что совершенный язык нужен нам не вообще, а для наиболее достойного воплощения в своих произведениях образов советских людей, для наиболее совершенного выражения наших идей» (стр. 169).
Однако задолго до А. Чивилихина, выполнившего партийный заказ, о «борьбе за чистоту» довольно пессимистически, но одновременно и весьма убедительно, высказался Е. Поливанов («За марксистское языкознание», стр. 164):
«Вообще мне представляется довольно сомнительной борьба с каким-либо языковым (в коллективной языковой психике существующим, разумеется) явлением, имеющим внеязыковую причину, если борьба эта не обращена вместе с тем на искоренение этой причины данного явления».
Несомненно, что пестрота и засоренность языка в первые десятилетия после Революции в какой-то мере обусловливались и теоретическими положениями советского языкознания, возглавлявшегося тогда акад. Н. Марром. Признание классовости языка и рассмотрение местных диалектов как прямых потомков самостоятельных племенных языков способствовали укоренению взгляда на общий язык как на фикцию или, в лучшем случае, как на конгломерат разрозненных классовых, профессиональных и территориальных диалектов.
Хотя акад. Н. Марр уделял очень мало внимания проблемам современного языка, всё же в одном высказывании, посвященном языку советского периода, он уверяет в существовании сдвига «на новую ступень стадиального развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания нового языка» (Избранные работы, т. II, стр. 375).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский язык при Советах"
Книги похожие на "Русский язык при Советах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Фесенко - Русский язык при Советах"
Отзывы читателей о книге "Русский язык при Советах", комментарии и мнения людей о произведении.