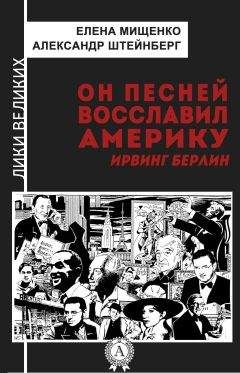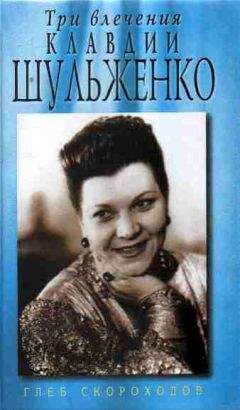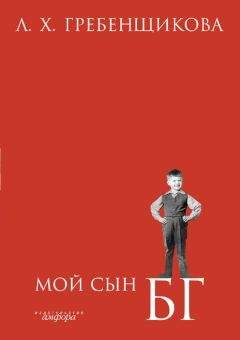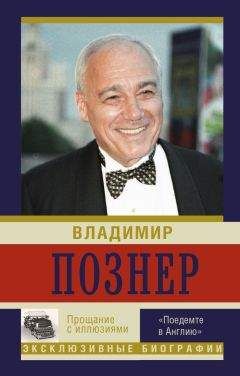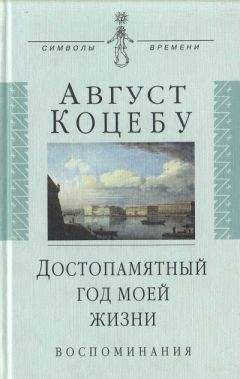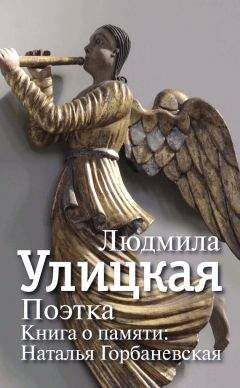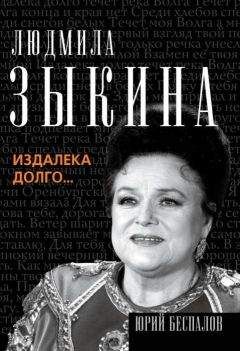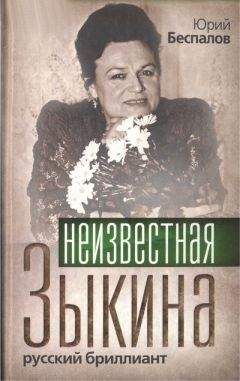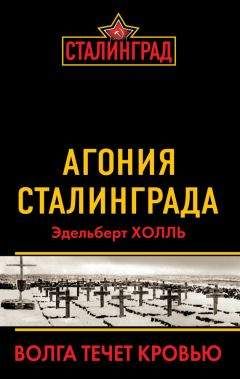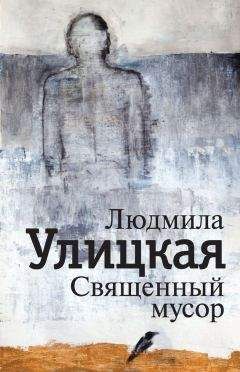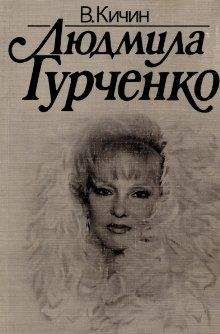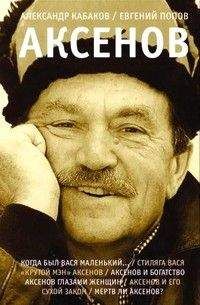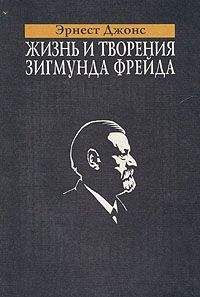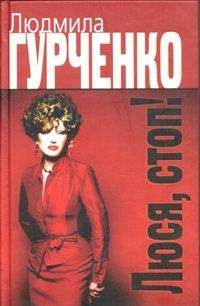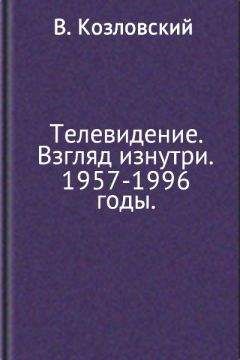Людмила Зыкина - Течёт моя Волга…
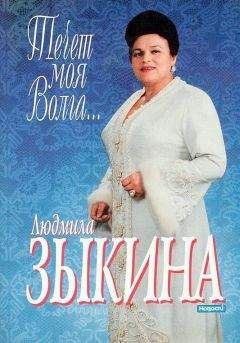
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Течёт моя Волга…"
Описание и краткое содержание "Течёт моя Волга…" читать бесплатно онлайн.
Эта книга с первых же страниц подкупает откровенностью, простотой изложения, оригинальностью оценок. Людмила Зыкина, снискавшая поистине всенародную известность и любовь, повествует о своей жизни и творческой биографии. Книга пронизана радостью встречи с Песней, чудесной музыкой, талантливыми людьми, с которыми автору довелось работать, общаться, дружить.
Эта книга будет интересна не только многочисленным почитателям таланта великой певицы, любителям отечественного и зарубежного искусства, истории родной страны, но и самому широкому читателю.
Успокоенность, боязнь риска, стремление заслониться наследством прошлого, сложившимися традициями, показным пиететом, за которыми часто скрывалась художественная немощь или безразличие к поиску, задрапированные в солидные «академические одежды», оказывали негативное воздействие на Плисецкую, задевали ее честолюбие. Хорошо понимая, что творческий процесс, ко всему прочему, зажимался политико-идеологическими оковами, вездесущим контролем, всевозможными инструкциями, рекомендациями и указаниями, что и как творить художнику, балерина предпринимала немалые усилия, чтобы вдохнуть в чахнущий на глазах балетный организм живительные соки действительного обновления, обратить внимание общества на передовые идеи мировой хореографии, позитивное мышление западных балетмейстеров, поскольку бедность репертуара Большого театра стала очевидной и для Запада. Но все попытки возродить нравственное чувство в сфере балета, ликвидировать мистическую страсть к единообразию наталкивались на непреодолимые препятствия. Диктат, амбиции, предвзятость руководства балетной труппы оборачивались против Плисецкой, и ее искания не находили выхода из замшелого бюрократического тупика. Может, был виноват ее импульсивный характер, натура максималистки? Вряд ли. Просто балерина открыто говорила о том, что ей нравилось, а что нет. Она никогда не питалась слухами, имеет свое мнение, даже если оно кажется некоторым неверным. Конечно, резкость суждений не всегда нравится начальникам, да и отвечать она привыкла громко, а не шепотом. Плисецкая, сколько ее знаю, всегда сопротивлялась чему-то установленному раз и навсегда, и дисциплина с ее узаконенными рамками, роль прилежной ученицы — не для ее характера. («Самым счастливым моментом в моей жизни было, когда меня выгоняли из класса», — заявила она в интервью журналу для молодежи.) Однако стремление сделать по-своему — это не строптивость, в чем ее упрекали власть предержащие в театре, а скорее нежелание повторяться, быть самобытной, независимой, что раздражало людей, не понимающих или слишком хорошо понимающих силу нового слова, но не желающих ударить палец о палец, чтобы нарушить привычный образ жизни, когда всех все устраивало в тихой, спокойной гавани, где, как заметил один журналистский балагур, «корабль советского балета прочно сел на мель имени Григоровича».
Бывали случаи, когда Плисецкую наказывали за то, что смела протестовать, перечить. Во время перелета по маршруту Рим−Дели она села в самолете в первый ряд. Очередной кагэбэшник, глава группы, потребовал освободить место для него. «Нет, я танцовщица и должна сидеть, вытянув ноги, мне вечером танцевать». «Я тебе покажу, едрена корень, какая ты танцовщица!» — пообещал тот. И показал. КГБ довольно долго не давал ей паспорт, мотивируя свой отказ разными несусветными причинами и доводами, и спектакли Большого театра возили по миру без примы, к неудовольствию зрителей, жаждущих увидеть танец именно Плисецкой.
Будучи всегда в оппозиции к советской власти, много лет оставаясь невыездной, лишенной возможности танцевать и ставить, что ей хотелось, балерина в то же время была гордостью существовавшей системы. Плисецкая неизменно выступала в Москве на всех правительственных концертах. Когда в бывший Союз приезжали важные зарубежные гости и делегации, посещение спектакля Большого театра с участием Майи Плисецкой было непременным условием протокола. Ею хвалились, она была как бы оправданием действующей системы. За рубежом говорили: раз Плисецкая не уезжает, значит, что-то в этой стране есть. И она действительно 50 лет кряду делала искусство. У нее был стыд и патриотизм. Ей часто предлагали уехать на Запад на фантастических условиях, но Плисецкая думала («Теперь понимаю, по глупости», — призналась она), что танцевать в Большом театре — великое благо, большая честь и огромная радость. Оказалось, что ошибалась всю жизнь. Ей еще когда Вишневская говорила: «Уезжай, а то тебя все равно выбросят». И действительно вышвырнули.
Она написала письмо Горбачеву, очень краткое и серьезное. Он не ответил. «По существу, — с горечью признавалась балерина, — это и был молчаливый ответ, мол, катись-ка ты отсюда. Я и укатила… Если бы уехала раньше, как много я могла бы сделать. Впрочем… Будь условия мало-мальски сносные, я бы жила здесь. Но если тебе не дают ни ставить, ни преподавать, ни выступать — зачем тогда вообще жить?»
Балерина хорошо помнила и вовсе «неласковые» периоды истории по отношению к искусству, людям, его творившим. Например, полупустой зал Большого театра сталинских времен, когда человека иногда выводили прямо на глазах, когда каждый в театре мог внезапно исчезнуть. Когда готовую уже постановку снимали только потому, что она не укладывалась в рамки социалистического реализма.
— Я долго пыталась пробить эту стену, — сетовала Плисецкая. — Ходила, доказывала, спорила… Потом поняла: само искусство просто не нужно. Ни старое, ни новое — никакое. Нужен рупор, пропаганда: «А также в области балета мы впереди планеты всей!» Как иначе объяснить, что у нас забыты даже имена людей, некогда составлявших славу русского балета, что навсегда похоронены постановки лучших отечественных хореографов? Как иначе объяснить, что двадцать пять лет назад в Большом театре были уничтожены уникальные декорации Константина Коровина, декорации Валентины Ходасевич к «Бахчисарайскому фонтану»? А если вспомнить всех изгнанных, запрещенных… Кошмар! На рабстве и страхе долго не протянешь. Нельзя то, другое, третье… Нельзя было танцевать новые балеты, приглашать новых хореографов. С величайшими скандалами и болями я сделала несколько своих спектаклей. Это стоило жизни и мне, и Щедрину. До последнего момента никто не знал, разрешат ли «Анну Каренину». Когда мы репетировали ее на сцене, двери зала были закрыты: оркестру, балету запрещалось видеть, участвовать до высочайшего разрешения. Эта вседозволенность диктатора — характерный штрих системы, где, как известно, кто начальник, тот и прав… Модерн-балет был запрещен вообще, потому что он противоречил социалистическому реализму и не был пронизан марксистскими догмами. «Кармен» раздражала откровенной чувственностью, поскольку, не секрет, тоталитарные системы всегда предпочитают пуританство. Наверное, потому, что в сексе, в страсти есть что-то неподконтрольное.
Терпеливо и мужественно несла свой нелегкий крест в Большом театре балерина, веря в порядочность и честность партократов и чиновников среднего и крупного ранга Министерства культуры СССР и пресловутого Госконцерта, организации, занимавшейся астрономическими поборами с популярных артистов. Никто не считал — а напрасно! — сколько долларов сдала государству знаменитая прима, оставаясь, по существу, с грошами в кармане. Будучи художественным руководителем Национального балета Испании, она ежемесячно получала за свой труд 7500 долларов. Но все деньги, до последнего цента, у нее отбирал Госконцерт. За выступление на телевидении ей заплатили 10000 долларов. Госконцерт милостиво разрешил ей взять себе… 160 долларов. При этом Плисецкая должна была привозить море бумажек, копий, заверенных счетов, квитанций, вплоть до справок из Мадридского банка, каков биржевой курс американского доллара в день получения своей собственной зарплаты. «От запроса этих бумаг, — негодовала артистка — у нормальных людей глаза на лоб лезут!» Кто же чинил административный произвол? Заместитель министра культуры Г. А. Иванов, тот самый ГАИ, бывший директор ГАБТа, вносивший сумятицу и нервозность в ставшее традиционно скандальным оформление контрактов с зарубежными странами. Скольких же потрепанных нервов стоили звезде мирового балета — и не только ей одной — действия высокого функционера? Больше того, сами звезды становились иногда изысканным «прикрытием» для зарвавшихся дельцов, промышлявших на ниве искусства.
— Я сама наблюдала, — рассказывала Плисецкая, — как в недалекие былые времена проворные директора и их многочисленные замы умудрялись заключать на меня по два равноплатежных договора с одним импресарио. Один договор — официальный, другой — тайный. На моих же глазах они клали эти внушительные тысячные суммы себе в карман, по-свойски деля добычу между собой, а часть передавая выше. Когда я говорила об этом во всеуслышание, в том числе и заместителям министра культуры тоже, все лишь потупляли глаза.
Поборами занимались и люди рангом пониже и вовсе глаз при этом не потупляли. В том же Большом театре. Я помню нашумевшую в 1986 году историю с поборами, когда выяснилось, что во время заграничных гастролей заведующий оркестром театра Панюшкин не один год собирал с оркестрантов дань в валюте. Злые языки в театре утверждали, что пристроившему в оркестр жену, тещу, дочь и мужа дочери Панюшкину не хватало денег, чтобы свести концы с концами, и ему ничего, ровным счетом ничего не оставалось делать, как обирать весь остальной оркестровый люд, выезжающий за рубеж, а это порядка ста лучших музыкантов. Когда у фаготиста и контрабасиста лопнуло терпение и они заявили протест, обоих уволили как «не прошедших по конкурсу», «из-за низкого профессионального уровня», хотя и Евгений Светланов, и Геннадий Рождественский, и Юрий Темирканов, и Тихон Хренников считали и того, и другого (один вообще был победитель трех (!) конкурсов) великолепными музыкантами. Чтобы не трепать нервы, фаготист плюнул на явное беззаконие, другой же набегался по судам и схватил в поисках истины гипертонический крис. ГАИ и тут пальцем не пошевелил, чтобы выправить положение.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Течёт моя Волга…"
Книги похожие на "Течёт моя Волга…" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Людмила Зыкина - Течёт моя Волга…"
Отзывы читателей о книге "Течёт моя Волга…", комментарии и мнения людей о произведении.