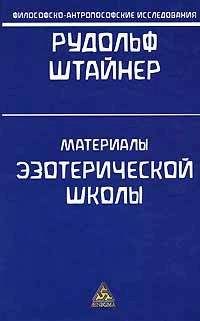Алексей Лосев - Форма. Стиль. Выражение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Форма. Стиль. Выражение"
Описание и краткое содержание "Форма. Стиль. Выражение" читать бесплатно онлайн.
"Форма - Стиль - Выражение" - собрание работ А. Ф. Лосева, посвященных эстетике, в частности музыкальной теории.
Мы произвели диалектическое разделение этих трех искусств как бы в одной плоскости. Все они суть эйдос (в том или другом виде), и все они алогически модифицируют этот эйдос. Однако это рассмотрение их с точки зрения категорий, конституирующих эйдос, может быть восполнено и даже заменено другим рассмотрением. Именно, мы брали законченный и сформированный эйдос и смотрели, какие его стороны воплощаются в художественной форме. Но этот законченный и сформированный эйдос можно рассматривать in statu nascendi<на стадии возникновения (лат.).>, т. е. в его мео–нальном происхождении, с точки зрения его уже внутри–эйдетического становления, которое и привело его к завершенной форме. Такое рассмотрение сразу покажет нам, какое из вышеозначенных трех искусств ближе к первичному алогическому становлению, к самой перво–художественности. Стало быть, если раньше мы брали эйдос, потом его инобытие, потом его воплощение в этом инобытии, т. е. факт, то теперь внутри самого эйдоса мы берем какую–то первичную осмысленность, берем ее инобытие и ее воплощение в этом инобытии. Внутри самого эйдоса оказывается становящееся, становление и ставшее (выше мы уже имели случай отметить, что диалектическая триада проникает собою любую категорию, так что вполне правомерна ее наличность и в эйдосе, см. прим. 6). Ясно, что каждая такая стихия, воплощаясь в художественной форме, даст свой особый вид формы; и ясно, что к вышеозначенному пункту перво–худо–жества наиболее близкой окажется форма, воплощающая само становление. Перво–единое само по себе не вмещается в раздельной мысли; но его становление, поскольку оно как такое проявляет себя в эйдосе, будет ближе всего отражать его невме–стимую природу.
Итак, какое же из трех эйдетических искусств есть становящееся, какое — ставшее в эйдосе и какое — само становление? Сравнивая их между собою по степени эйдетической явленности, мы сразу замечаем, что самое внешнее из них, самое явленное, самое в этом смысле конкретное, — несомненно, живопись. Она почти видна глазами. Правда, это — не тело, и потому назвать это< В первом изд.: его.> вполне телесным и видимым нельзя, но как–то эта форма все–таки видима глазами. Гораздо более внутрення поэзия. Она уже не требует открытых глаз. Ее образы — внутренние представления духа, как бы данные только в чистой фантазии. Яв–ленность ее — духовнее, чем живописная, и к перво–истоку художественности она ближе, чем живопись. Наконец, едва ли кто–нибудь станет отрицать то, что в музыке мы имеем еще большее проникновение в недра творящего духа, еще что–то более бесплотное и внутреннее. Если живопись есть воспринимаемый образ, то поэзия есть представляемый и мыслимый образ, музыка же — образ, который уже не воспринимается, не мыслится как готовый, но — образ, который впервые тут только еще порождается, происходит. Это как раз именно перво–исток, корень, рождающее лоно всякой художественной образности. Это то первичное алогическое становление, которое рождает всякий эйдос, — следовательно, всякую художественную форму. Это тот извечный, никогда не оформляющийся плодотворный Хаос, из которого вырастает всякое оформление и всякое художество. Если поэзия есть становящееся эйдоса, живопись — ставшее эйдоса, то музыка — само становление эйдоса, дающее наиболее выразительную картину общего и первичного до–эйдетического становления. Можно сказать и так. Музыка есть до–эйдетическое становление эйдоса; поэзия — внутри–эйдетическое становление эйдоса; живопись — вне–эйдетическое становление эйдоса же (не само вне–эйдетическое инобытие, рассмотренное в собственном эйдосе, что повело бы уже за пределы самого эйдоса, а мы сейчас говорим все время о разных становлениях эйдоса, взятого самим по себе). Отсюда видно, что музыка ближе всего к перво–художеству и она воплощает не образы становления, но само становление как такое. Поэзия закрепляет это становление в отдельных пунктах и тем создает эйдетические образы. Живопись берет эти готовые эйдосы и заново воплощает их в той же созерцательной и умной материи. Так можно было бы квалифицировать эти три эйдетических искусства с точки зрения не диалектических степеней и категорий, но внутри–категориальной, структурно–меональной предметности. (Более подробный анализ музыки с точки зрения логики содержится в моей книге «Музыка как предмет логики». М., 1927.).
Надо не сбиться при сравнении этой квалификации музыки, поэзии и живописи с тою, которая дана у меня в основном тексте. Там — квалификация категориальная, тут — квалификация мео–нальная. Категория, конечно, предполагает меон, ибо в результате его функционирования она и появляется, им же внутри себя и наполняется. Равно и меон предполагает категорию, ибо становиться и быть «иным» можно только в отношении чего–нибудь, а не вообще. Интересно, однако, что платонизм, кончая последними неоплатониками, формулируя пять основных категорий, конституирующих сферу эйдоса, не помещает в их число ни становление, ни материю, ни меон. Все это, по Плотину, не категории, но — принцип категорий, варьирующийся от сферы своего применения. Итак, в сфере смысла, где слиты в единое и сплошное тождество категория и ее внутреннее инобытие, вполне позволительно выделять поочередно то самую категорию, подчиняя ей ее инобытие, то ее инобытие, подчиняя ей его категорию. Первое мы сделали в основном тексте, второе делаем здесь. Но эта принципиальная ясность должна завершиться и фактически осуществленной ясностью, т. е. ясностью во взаимоотношениях обеих квалификаций.
Так как обе квалификации не покрывают и не заслоняют друг друга, а лишь представляют собою разные пласты одной и той же смысловой сферы, то они суть нечто параллельное и взаимосоответственное. Конкретно говоря, если мы возьмем вторую — меональную — квалификацию, то в ней найдут место все те художественные категории, которые мы вывели в первой квалификации соответственно каждой отдельно^ области этой последней. Другими словами, беря музыку в первом смысле, мы в ней находим музыку, поэзию, живопись во втором смысле. Беря поэзию в первом смысле, находим в ней музыку, поэзию, живопись во втором смысле. Беря живопись в первом смысле, находим музыку, поэзию, живопись во втором смысле. Еще конкретнее: музыка (вторая квалификация) содержит в себе ритм (от музыки в перв. кв.), тон (от поэзии в перв. кв.), симметрию (от живописи в перв. кв.), равно (с алогической модификацией в перв. кв.) — акустически полную форму, дающую заполнение всех этих категорий; поэзия (вторая кв.) содержит в себе также — соответственно — ритм, слово–образ, симметрию (уже чисто поэтические, с соответствующим заполнением); и, наконец, живопись (вторая кв.) содержит в себе опять–таки свой, уже чисто живописный ритм, краски, симметрию. Так обе квалификации пополняют и конкретизируют одна другую. И только теперь видно все подлинное значение первой квалификации. Там мы вывели категорию, напр., ритма, но тут же констатировали, что ритм — не только в музыке. Там вывели «музыку», но ведь говорят же о мелодике и инструментовке стиха и поэзии. И т. д. Теперь, когда мы вывели не просто категории, но самые структуры, меонально выполненные, можно говорить уже о сфере приложения отдельных категорий и тем самым, следовательно, уже о реальных искусствах. Разумеется, можно продолжить наш анализ и дальше и говорить о скульптурности в музыке, поэзии, живописи, об архитектурно–сти в музыке, поэзии и живописи. И это вполне правомерные проблемы, так как в мотиве Вальгаллы у Вагнера я совершенно отчетливо чувствую архитектуру, в мотиве Хундинга — скульптуру, а в мотиве огня — живопись. Но от этой увлекательной проблематики я принужден здесь воздержаться, так как это нужно делать не в общей классификации искусств, но в детальном анализе каждого искусства в отдельности.
Гениальные интуиции существа музыкального искусства находим, как известно, у Шопенгауэра. § 52 первого тома «Мира как воли и представления» и гл. 39 второго тома являются, быть может, самым гениальным, что было сказано о музыке вообще. Как известно, Шопенгауэр в основе мира находит волевое, безумное и безудержное стремление, смысловой объективацией которого являются идеи, а объективацией идеи — материя и реальные вещи. Если это учение освободить от метафизической терминологии и если вкладывать в него <В первом изд.: в нюс.> чисто диалектический смысл, то учение Шопенгауэра будет тождественно с нашим учением о сверх–смысловом становлении, смысловом становлении (или эйдосе) и вне–смысловом становлении. «Воля» Шопенгауэра во всяком случае есть наше до–смысловое алогическое становление, и она меньше всего похожа на обычную психологическую данность.
В первом томе «Мира» (пер. Айхенвальда, 266) читаем: «Адекватной объективацией воли служат идеи (Платоновы): вызвать познание этих идей путем изображения отдельных вещей (ибо такими все же являются все художественные произведения) — что возможно лишь при соответственной перемене в познающем субъекте, — вот цель всех других искусств. Все они, таким образом, объективируют волю лишь косвенно — именно, при посредстве идей; и так как наш мир не что иное, как проявление идей во множественности посредством вступления в principium indivi–duationis < принцип индивидуализации (лат.).> (форму познания, возможного для индивидуума как такого), то музыка, не касаясь идей, будучи совершенно независима и от мира явлений, совершенно игнорируя его, могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира вовсе не было, — чего о других искусствах сказать нельзя. Музыка — это непосредственная объективация и отпечаток всей воли, подобно самому миру, подобно идеям, умноженное проявление которых составляет мир отдельных вещей. Музыка, следовательно, в противоположность другим искусствам вовсе не отпечаток идей, а отпечаток самой воли, объектностью которой служат и идеи; вот почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других искусств: ведь последние говорят только о тени, она же — о существе». «Мы можем рассматривать мир явлений, или природу и музыку, как два различных выражения одной и той же вещи, которая сама, таким образом, является единым посредствующим звеном аналогии между ними, — — звеном, познание которого необходимо для того, чтобы усмотреть эту аналогию. Поэтому музыка, рассматриваемая как выражение мира, представляет собою в высшей степени общий язык, который даже к общности понятий относится почти так, как они — к отдельным вещам. Но ее общность вовсе не пустая общность абстракции, а имеет совершенно другой характер и всегда связана с ясной определенностью. Она в этом отношении подобна геометрическим фигурам и числам, которые, как общие формы всех возможных объектов опыта и ко всем a priori применимые, тем не менее не абстрактны, а наглядны и всегда определенны. Все возможные стремления, волнения и проявления воли, все сокровенные движения человека, которые разум слагает в широкое отрицательное понятие чувства, — все это поддается выражению в бесконечном множестве возможных мелодий; но выражается это непременно в общности одной только формы, без содержания, непременно в себе, а не в явлении как бы в сокровенной душе своей, без тела. Из этого интимного отношения, которое связывает музыку с истинной сущностью всех вещей, объясняется и тот факт, что если при какой–нибудь сцене, поступке, событии, известной ситуации прозвучит соответственная музыка, то она как бы раскрывает нам их таинственный смысл и является их верным и лучшим комментарием; и кто всецело отдается впечатлению симфонии, тому кажется, что перед ним проходят все события жизни и мира, но, очнувшись, он не может указать какого бы то ни было сходства между этой игрою и тем, что ему предносилось. Ибо музыка, как уже сказано, тем отличается от всех других искусств, что она не отпечаток явления или, правильнее, адекватной объектности воли, а непосредственный отпечаток самой воли и, таким образом, для всего физического в мире показывает метафизическое, для всех явлений — вещь в себе. Поэтому мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной волей; этим и объясняется, отчего музыка непосредственно повышает значение всякой картины и даже всякой сцены действительной жизни и мира — и, конечно, тем сильнее, чем аналогичнее ее мелодия с внутренним духом данного явления. На этом основано то, что стихотворение можно перелагать на музыку в виде песни, наглядное описание — в виде пантомимы или то и другое — в виде оперы. Такие отдельные картины человеческой жизни, переложенные на общий язык музыки, никогда не связаны с ним безусловной необходимостью или полным соответствием, а находятся к нему только в отношении произвольно выбранного примера к общему понятию; они представляют в определенных очертаниях, в действительности то, что музыка выражает в общности чистой формы, ибо мелодии до известной степени являются подобно общим понятиям абстракцией действительности. Последняя, т. е. мир наглядных вещей, доставляет наглядное, частное и индивидуальное, отдельный случай — как для общности понятий, так и для общности мелодий; но эти две общности в известном отношении противоположны одна другой, потому что понятия содержат в себе только формы, отвлеченные из предварительного воззрения, как бы снятую внешнюю оболочку вещей, т. е. представляют собою настоящие абстракции, тогда как музыка дает предшествующее всякой форме сокровенное зерно, или сердцевину вещей. Это отношение можно было бы очень хорошо выразить на языке схоластиков: понятия — universalia post rem, музыка дает universalia ante rem, а действительность — universalia in re <общие понятия после вещей… общие понятия прежде вещей… общие по¬нятия в вещах (лат.).>. Общему смыслу мелодии, приданной известному стихотворению, могли бы в одинаковой степени соответствовать и другие, столь же произвольно выбранные словесные иллюстрации к тому общему, что выражено в ней; вот отчего одна и та же композиция подходит ко многим куплетам, вот отчего произошел водевиль. Вообще же самая возможность соотношения между композицией и наглядным описанием, как сказано, зиждется на том, что та и другая являются лишь вполне различными выражениями одной и той же внутренней сущности мира. И вот, когда в отдельном случае действительно имеется такое соотношение, т. е. композитор сумел высказать на общем языке музыки те волевые движения, которые составляют зерно данного события, тогда мелодия песни, музыка оперы очень выразительны. Но эта найденная композитором аналогия непременно должна вытекать бессознательно для его разума из непосредственного познания сущности мира и не должна быть сознательно преднамеренным подражанием с помощью понятий — иначе музыка выражает.не внутреннюю сущность, не самую волю, а только неудовлетворительно копирует ее явления; так это и бывает во всей собственно подражательной музыке, например во «Временах года» Гайдна; таково же и его «Творение» — во многих местах, где звучит непосредственное подражание явлениям внешнего мира; таковы и все пьесы батального характера. Это совсем недопустимо».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Форма. Стиль. Выражение"
Книги похожие на "Форма. Стиль. Выражение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Лосев - Форма. Стиль. Выражение"
Отзывы читателей о книге "Форма. Стиль. Выражение", комментарии и мнения людей о произведении.