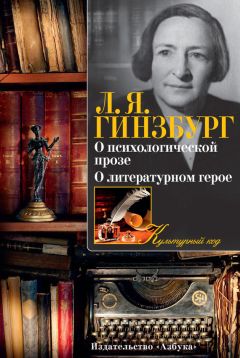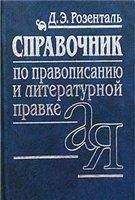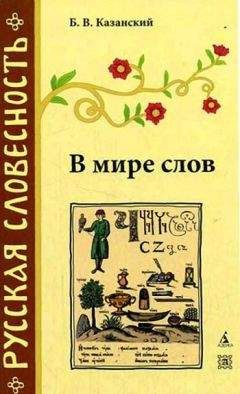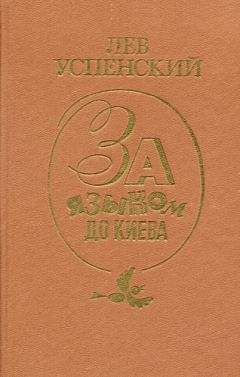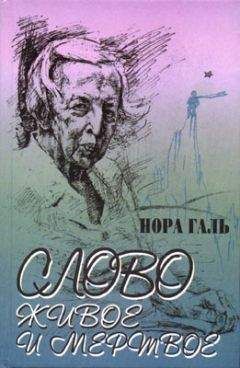Корней Чуковский - Живой как жизнь
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Живой как жизнь"
Описание и краткое содержание "Живой как жизнь" читать бесплатно онлайн.
2-е издание, исправленное и дополненное.
«Живой как жизнь» — главная книга Чуковского, посвященная русскому языку, его истории и современной жизни, законам его развития. Нескрываемый и страстный интерес автора к слову как к началу всех начал в сочетании с объективным научным анализом речи — отличительная особенность книги Чуковского, сделавшая ее такой популярной и читаемой в нашей стране.
В книге вы найдете огромное количество примеров живой русской речи, узнаете, что такое «канцелярит» и как с ним бороться, «умслопогасы» и «иноплеменные слова» и многое-многое другое...
Достаточно также вспомнить, с какой непримиримой враждебностью относился покойный Федор Васильевич Гладков ко всякому, кто, например, ставил неправильные ударения в слове реку или употреблял выражение пара минут, пара дней.
Как-то около месяца я провел с ним в больнице и с большим огорчением вспоминаю теперь, какой у него сделался сердечный припадок, когда один из больных (по образованию геолог) вздумал защищать перед ним слово учёба, к которому Федор Васильевич питал самую жгучую ненависть.
Таких случаев я наблюдал очень много. Люди стонут, хватаются за сердце, испытывают лютые муки, когда в их присутствии так или иначе уродуется русская речь.
Причем замечательно, что наряду с уродливыми словами и фразами нам свойственно ненавидеть и тех, кто ввел этих уродов в свою речь. Если бы те же слова и фразы пришли к нам из другого источника, они не казались бы нам такими уродами и, может быть, мы полюбили бы их.
Если внимательно вдуматься, все эти я пошел, ну пока, я переживаю и проч. показались мне на первых порах неприемлемыми именно потому, что те люди, от которых мне пришлось услыхать их впервые, были хамоваты и пошлы.
«Ведь это очень часто бывает, — говорит один большой ученый, — что с отдельными словами и оборотами речи могут у нас сочетаться впечатления чего-то неприятного, даже отталкивающего именно потому, что они зародились во враждебной среде, чуждой нашим культурным традициям»[23].
Именно этим объясняется моя ненависть к таким (для меня невыносимым) словам, как:
— Приветик!
— Салютик!
— Порядочек!
Слишком уж чужды эти слова тем культурным традициям, под влиянием которых я рос и воспитывался.
— Я бы ей, мерзавке, глаза выцарапала, — сказала одна старая женщина (обычно весьма добродушная), когда услышала, как некая дева с искренним восторгом закричала подруге: «Смотри, какие шикарные похороны!»
Дева действительно была воплощением пошлости: ее восклицание шикарные похороны носило на себе отпечаток самых затхлых низин обывательщины. За это — и только за это — старуха отнеслась к ее словам с такой злобой.
Потому что очень часто тот или иной речевой оборот бывает нам люб или гадок не сам по себе, но главным образом в связи с той средой, которая породила его.
Одного этого эпизода достаточно, чтобы стала вполне очевидна классовая, а порою и кастовая заинтересованность опекунов языка.
О подобных случаях хорошо говорил еще в 20-х годах XX века один из проницательных наших филологов.
«Это, — говорил он, — борьба не против слова, а против того, что за ним: против душевной пустоты, против попытки заткнуть словом прорехи мысли и совести»[24].
И более подробно — о том же:
«Чаще всего наше чувство протестует не столько против самих словечек, сколько против того, что за ними. Их неточность и неправильность, их безграмотность и чужеродность не были бы так несносны, если бы не были очевиднейшим выражением внутренней пошлости и кривляния, неискренности и легкости в мыслях необычайной»[25].
Вот в какой атмосфере раскаленных страстей уже с 20—30-х годов происходят у нас разговоры о красоте и уродствах нашей речи. «Пошлость», «кривляние», «неискренность», «душевная пустота», «прорехи мысли и совести» — разве не видно по этим сердитым словам, какие необузданные, бурные чувства вызывают во многих сердцах споры о родном языке?
До какого накала дошли они нынче, я убедился на собственном опыте.
Стоило мне напечатать в «Известиях» небольшую статью о некоторых тенденциях современного языкового развития, и я получил от читателей сотни взволнованных писем, где вопросы о родном языке дебатируются с беспримерной запальчивостью.
Например, московский житель Б., найдя в моей статье выражение, которое показалось ему неудачным, именует меня в своем письме шарлатаном и другими, еще более едкими прозвищами, нисколько не опасаясь судебной ответственности.
А кандидат наук(!) М. рассылает по разным инстанциям гневные статьи и заметки, упрекающие меня в дикой безграмотности, восставая против таких якобы уродливых слов, как: мне сдается, угнездились, отшибить и т.д., хотя, право же, они чисто русские, простые и ясные.
Вообще всем этим письмам — умным и глупым равно свойственна повышенная эмоциональность, взволнованность. Обвиняют ли читатели неряшливый газетный жаргон, приводят ли они вопиющие примеры тех искажений, которые встречаются в речи учителей и учащихся, указывают ли на речевые погрешности радио, — ясно, что для каждого из них это жгучий вопрос, который они не могут обсуждать хладнокровно.
Перелистываешь эти письма и убеждаешься в тысячный раз: читатель недоволен, возбужден, взбудоражен. Всюду ему мерещатся злостные исказители речи, губители родного языка. Чуть только в какой-нибудь статье или книге он заметит малейшую языковую погрешность или непривычную словесную форму, он торопится в грозном письме уличить автора этой статьи или книги в кощунственном пренебрежении к русской речи, хотя очень часто случается, что его собственная русская речь хромает на обе ноги.
Отобрав наиболее серьезные и дельные письма — их, конечно, оказалось немало, — я увидел, что суждения, которые излагаются в них, легко можно распределить по таким (очень отчетливым) рубрикам:
1. Одни читатели непоколебимо уверены, что вся беда нашего языка в иностранщине, которая будто бы вконец замутила безукоризненно чистую русскую речь. Избавление от этой беды представляется им очень простым: нужно выбросить из наших книг, разговоров, статей все нерусские, чужие слова — все, какие есть, и наш язык тотчас же вернет себе свою красоту. Эти борцы с иностранщиной настроены очень воинственно, и когда я позволил себе насмешливо выразиться о каком-то литературном явлении снобизм и назвать какое-то музыкальное произведение опус, я был во множестве писем осыпан упреками за свое пристрастие к иностранным словам.
2. Другие читатели требуют, чтобы мы спасли нашу речь от чрезмерного засилья вульгаризмов — как нынешних, так и воскресших из старых жаргонов: лабуда, шмакодявка, буза, на большой палец, железно и проч.
3. Третьи видят главную беду языка в том, что он чересчур засорен диалектными, областными словами.
4. Четвертые, напротив, негодуют, что мы слишком уж строги к областным диалектам и гоним из литературного своего обихода такие живописные речения, как лонисъ, осенесъ, кортомыга, невздоха, а также старославянское всуе.
5. У пятых еще сохранились обывательские, ханжеские, чистоплюйские вкусы: им хочется, чтобы русский язык был жеманнее, субтильнее, чопорнее. Увидев в какой-нибудь книге такие слова, как подлюга, или шиш, или дрыхнуть, они готовы кричать «караул!» и пишут автору упреки за то, что он позволяет себе бесчестить и уродовать русский язык. Прочтя в моей статье слово пакостный, новочеркасский пенсионер Т. поспешил сделать мне начальственный выговор: «Это слово не должно быть (так и написано: не должно быть. — К. Ч.) в разговоре, а тем более в печати, в серьезной статье». А бакинский читатель Д., сделав мне такой же упрек, высказал в своем письме пожелание, чтобы русская литература была возможно скорее избавлена от тех грубостей, какие встречаются, например, в стихах Маяковского. «Разве, — пишет он, — такие выражения, как „Облако в штанах“, „Я достаю из широких штанин“ и т.д., могут дать ценное для освоения русской речи?» (?!)
6. Шестые, как, например, тот же достопримечательный кандидат наук М., возмущаются, если какой-нибудь автор употребит в своей статье или книге свежее, выразительное, неказенное слово, далекое от канцелярского стиля, который и составляет их речевой идеал. И таких читателей немало. Требования подобных читателей можно сформулировать так: побольше рутинных, трафаретных, бескрасочных слов, никаких живописных и образных!
7. Седьмые обрушиваются на сложносоставные слова, такие, как Облупрпромпродтовары, Ивгосшвейтрикотажупр, Ургоррудметпромсоюз и т.д. Причем заодно достается даже таким, как ТЮЗ, Детгиз, диамат, биофак.
Конечно, трогательна эта забота современных читателей о своем родном языке, о его процветании, красоте и здоровье.
Но можно ли считать безупречными поставленные ими диагнозы? Нет ли здесь какой-нибудь невольной ошибки? Ведь в медицине это случалось не раз: лечили от мнимой болезни, а подлинной не распознали, не заметили. И пациенту приходилось своею жизнью расплачиваться за такие заблуждения медиков.
Хорошо сказано об этом у того же Горнфельда, которого так высоко ценили Короленко и Горький.
«Вдруг, говорит он, — на основании двух-трех случайных наблюдений, без всякого углубления в смысл явлений, раздается патриотический, националистический, эстетский или барственный стон: язык в опасности, и забивший тревогу может быть уверен, что если не соответственным действием, то, во всяком случае, вздохом сочувствия откликнутся на его призыв десятки огорченных душ, столь же недовольных новизной и столь же мало способных разобраться в том, что же в ней действительно дурно и что необходимо».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Живой как жизнь"
Книги похожие на "Живой как жизнь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Корней Чуковский - Живой как жизнь"
Отзывы читателей о книге "Живой как жизнь", комментарии и мнения людей о произведении.