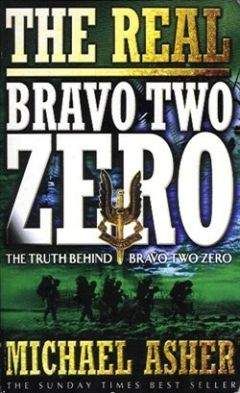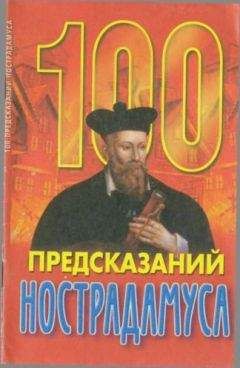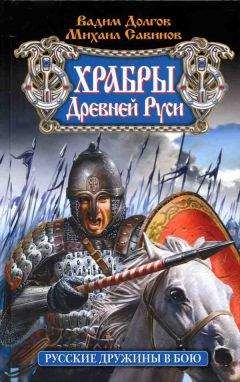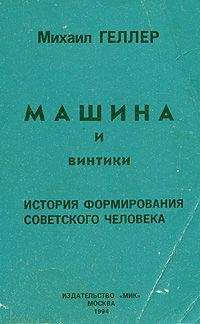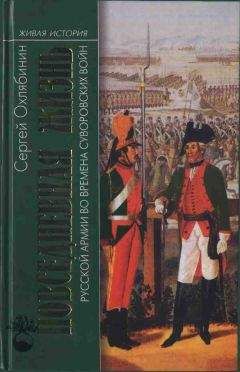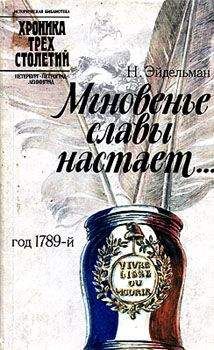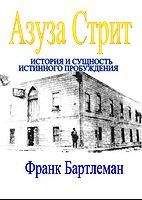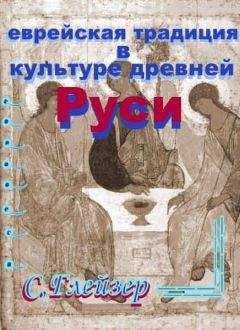коллектив авторов - Смех в Древней Руси
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Смех в Древней Руси"
Описание и краткое содержание "Смех в Древней Руси" читать бесплатно онлайн.
Введите сюда краткую аннотацию
Другая форма протеста в юродстве — осмеяние мира, то, что Аввакум называл словом «шаловать». Эта форма зафиксирована уже в рассказе о первом русском юродивом Исаакии Печерском. «Он же, не хотя славы от человек, нача юродство творити и пакости наносити ово игумену, ово же братии, ово и мирским человеком, по миру ходя, яко и раны многим возлагати на нь».18 Говоря об осмеянии мира, агиографы как греческие, так и славянские подчеркивают, что делать это может только совершенный нравственно человек. Вот как наставляет авву Симеона собрат, подвизавшийся с ним в пустыне: «Смотри, брат мой, как бы не лишился ты из-за насмешек своих сознания греховности своей… Смотри, прошу тебя, когда смеется лицо твое, да не веселится вместе и ум твой… когда поднимаются ноги, да не нарушается в неподобной пляске покой внутри тебя, коротко сказать — что
творит тело твое, да не творит душа».
Эти рассуждения чрезвычайно важны для анализа русского юродства. Отношение христианства вообще и православия в частности к смеху не было вполне однозначным. Но в православии всегда преобладала та линия, которая считала смех греховным. Еще Иоанн Златоуст заметил, что в Евангелии Христос никогда не смеется. В XVI–XVII вв., в эпоху расцвета юродства, официальная культура отрицала смех, запрещала его как нечто недостойное христианина. Димитрий Ростовский прямо предписывал пастве: если уж случится в жизни очень веселая минута, не смеяться громко, а только «осклабиться» (это предписание заимствовано из Книги Иисуса, сына Сирахова: «Буй в смехе возносит глас свой; муж разумный едва осклабится»), Старший современник Димитрия, питомец той же Киево-Могилянской коллегии Иоанникий Галятовский учил прихожан: «Выстерегаймося… смехов, бо мовил Христос: „Горе вам, смеющымся, яко возрыдаете"».
О том, что в Москве существовал запрет на смех и веселье, с удивлением и страхом писал единоверный путешественник XVII в. архидиакон Павел Алеппский, сын антиохийокого патриарха Макария: «Сведущие люди нам говорили, что если кто желает сократить свою жизнь на пятнадцать лет, пусть едет в страну московитов и живет среди них как подвижник… Он должен упразднить шутки, смех и развязность… ибо московиты… подсматривают за всеми, сюда приезжающими, нощно и денно, сквозь дверные щели, наблюдая, упражняются ли они непрестанно в смирении, молчании, посте или молитве, или же пьянствуют, забавляются игрой, шутят, насмехаются или бранятся… Как только заметят со стороны кого-либо большой ли малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака, отправляя туда вместе с преступниками… ссылают в страны Сибири… удаленные на расстояние целых трех с половиною лет, где море-океан и где нет уже населенных мест»{98}.
Павел Алеппский, объясняя запрет на смех внекультурными причинами, конечно, многое преувеличил, изобразив русских кашми-то фанатиками серьезности. Однако не подлежит сомнению, что в культуре, так или иначе связанной с русской церковью, этот запрет имел место и играл большую роль. Не случайно в повести оСавве Грудцыне, испытавшей сильнейшее влияние жанра "чуда", смех сделан устойчивой приметой беса. Этот запрет отражался и в пословицах: «Смехй да хихй введут во грехи»; «Где грех, там и смех»; «В чем живет смех, в том и грех»; «Сколько смеху, столько греха»; «И смех наводит на грех».
Житийные герои, как правило, не смеются. Исключение из этого правила делается редко; но оно всегда делается для юродивых. Приведем два идущих подряд эпизода из жития Василия Блаженного{99}. Однажды прохожие девицы (в других версиях — рыночные торговки) посмеялись над наготой юродивого — и тотчас ослепли. Одна из них, «благоразумна суща», побрела, спотыкаясь, за блаженным и пала ему в ноги, умоляя о прощении и исцелении. Василий спросил: «Отселе не будешь ли паки смеятися невежественно?». Девица поклялась, что не будет, и Василий исцелил ее, а вслед за нею и остальных.
Другая сцена перенесена в московскую корчму. Хозяин корчмы был зол и «ропотлив»: «Всем ругательно обычаем своим бесовским глаголаше: „Чорт да поберет!"». Зашел в корчму жалкий пропойца, трясущийся с похмелья, вытащил медную монету и потребовал вина. Народу было великое множество, только поспевай подносить, и хозяин отмахнулся от пьяницы. Тот никак не отставал, и «корчемник же… нали вина скляницу и дает ему, с сердца глаголя: „Приими, пияница, чорт с тобою!"». С этими словами в скляницу вскочил скорый на помине бес (заметил это, конечно, только провидец-юродивый). Пропойца поднял чарку левой рукой, а правой перекрестился. Тут бес «бысть силою креста палим и жегом аки огнем и выскочи из сосуда и… побеже из корчемницы». В голос захохотал Василий Блаженный, озадачив пьяную братию: «почто плещет руками и смеется?». Пришлось юродивому рассказать о том, что было ему «явлено».
Оба эти рассказа — весьма невысокого художественного качества{100}. Это особенно бросается в глаза, если сопоставить их с другими эпизодами жития. И все же включение их в повествовательную ткань нельзя считать ни прихотью, ни ошибкой агиографа. Его привлекали не тривиальные сюжеты, ничего не раскрывающие в юродстве, а общая для обоих рассказов тема смеха. Смехом начинается первый эпизод, смехом кончается второй. В итоге получается цепное построение, вставленное в своеобразную рамку. Все это несет идеологическую нагрузку: грешным девицам смеяться нельзя, смехом они губят душу, а юродивому — можно («когда смеется лицо твое, да не веселится вместе и ум твой»),
Осмеяние мира — это прежде всего дурачество, шутовство. Юродивый «все совершает под личиной глупости. и шутовства.
Еретики и клеветники изыдут в преисподняя,
Смехотворны в глумословцы в вечный плач.
Но слово бессильно передать его поступки. То он представлялся хромым, то бежал вприпрыжку, то ползал на гузне своем, то подставлял спешащему подножку и валил его с ног, то в новолуние глядел на небо, и падал, и дрыгал ногами». Авва Симеон, поступив в услужение к харчевнику, раздавал всем бобы и не брал за них денег — за что, конечно, был бит хозяином. Прокопий Вятский на рынке отнял у торгаша корзину калачей, высыпал их на землю и топтал ногами. Арсений Новгородский, получив от Ивана Грозного мешок серебра, наутро бросил его к ногам царя, сопроводив этот жест такой шутовской фразой: «Вопиет убо у мене в келий, и спати мне крепко сотворит» (обыкновенный шут закончил бы эту фразу словами: «… и спати мне не дает»; но юродивый ночью обязан бодрствовать и молиться, почему здесь и употреблен антоним). Симон Юрьевецкий как-то раз бесчинствовал в доме воеводы. Его прогнали в шею, и тогда он прокричал: «Заутра у тебе с сеней крава свалится!». И действительно, назавтра упала с крыльца и убилась до смерти воеводская жена Акулина. Это не столько пророчество, сколько грубое дурачество (не нужно быть пророком, чтобы обозвать коровой толстую и неповоротливую Женщину), выходка шута, а не подвижника.
Симон Юрьевецкий то и дело попадает в анекдотические ситуации (и сам их создает). У какого-то местного попа застряла в глотке рыбья кость. Он еле живой пришел в корчму, «в нейже питие продается. Блаженному же Симону прилучившуся во храмине той, понеже начасте прихождаше блаженный во храмину ту и пиющим возбраняйте». Поп только еще подумывал пожаловаться юродивому, а тот «духом святым» уже сообразил, в чем беда. Симон схватил попа за горло и сильно сдавил его. Поп упал замертво, у него хлынула горлом кровь, а вместе с нею вышла и кость. Это типичная фацеция. Агиограф намеревался рассказать об исцелении, а рассказал о кабацкой драке.
Типичный пример такого юродского дурачества находим у протопопа Аввакума, в рассказе о споре с вселенскими патриархами; кстати, среди них был и Макарий Антиохийский, отец того самого архидиакона Павла, который так горько и с таким страхом сетовал по поводу московского запрета на смех. Аввакум вспоминает: «И я отшеп ко дверям да набок повалился: „Посидите вы, а я полежу", говорю им. Так оне смеются: „Дурак-де протопоп-от! И патриархов не почитает!"». Чтобы читатель правильно понял эту сцену, Аввакум дальше цитирует апостола Павла.(1-е послание к коринфянам, IV, 10); «И я говорю: мы уроди Христа ради; вы славни, мы же бесчестии, вы сильни, мы же немощни». Это одна из_тех новозаветных фраз, которыми богословы обыкновенно обосновывают подвиг юродства. В этой сцене смеются все персонажи — и Аввакум, и вселенские патриархи. Но смех Аввакума душеполезен (в этот момент дурачится не протопоп, а юродивый), смех же патриархов греховен.
Мы в состоянии представить, что конкретно имел в виду протопоп Аввакум, когда он «набок повалился», что он хотел скарать своим гонителям. Этот жест расшифровывается с помощью Ветхого завета. Оказывается, Аввакум подражал пророку Иезекиилю (IV, 4–6): «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева… Вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина». По повелению свыше Иезекииль обличал погрязших в преступлениях иудеев, предрекал им смерть от моровой язвы, голода и меча. Это предсказание повторил и Аввакум. О «моровом поветрии» и «агаряпском мече» как наказании за «Никоновы затейки» Аввакум писал царю в первой челобитной (1664). К этой теме он возвращался не раз и в пустозерской тюрьме: «Не явно ли то бысть в нашей Росии бедной: Разовщина — возмущение грех ради, и прежде того в Москве коломенская пагуба, и мор, и война, и иная многа. Отврати лице свое владыка, отнеле же Никон нача правоверие казити, оттоле вся злая постигоша ны и доселе»{101}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Смех в Древней Руси"
Книги похожие на "Смех в Древней Руси" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " коллектив авторов - Смех в Древней Руси"
Отзывы читателей о книге "Смех в Древней Руси", комментарии и мнения людей о произведении.