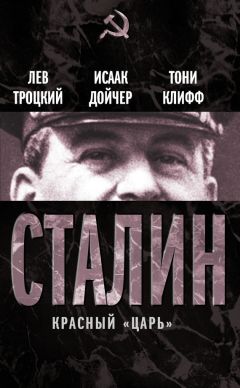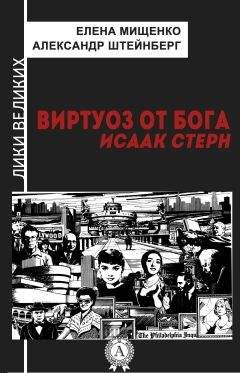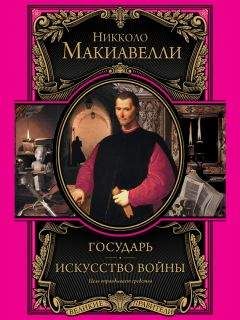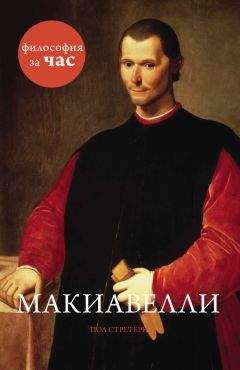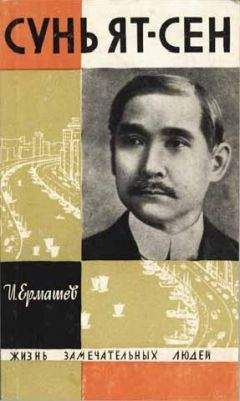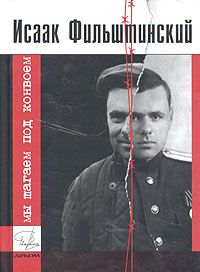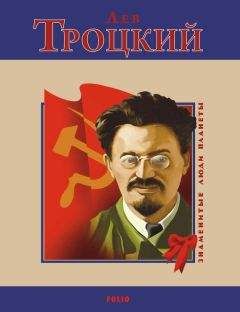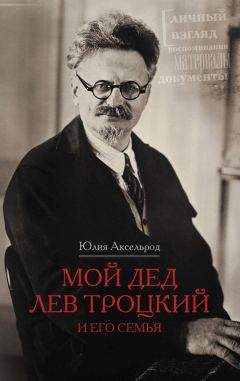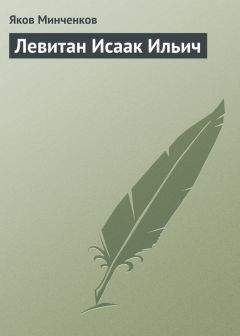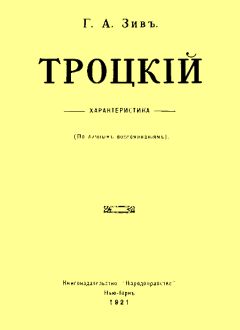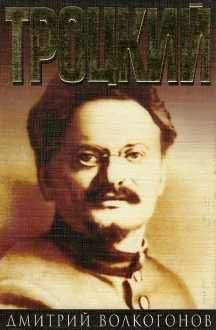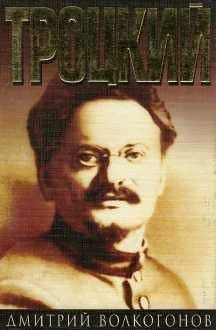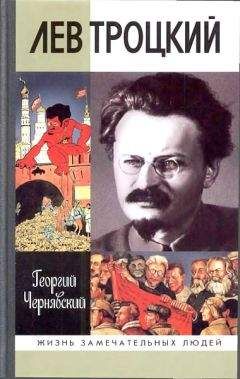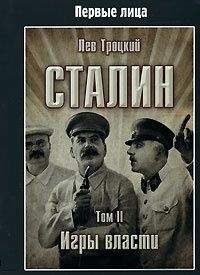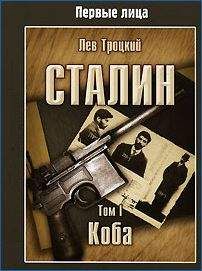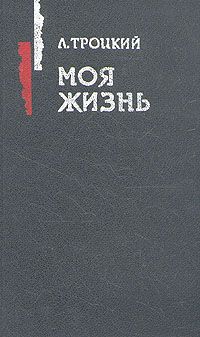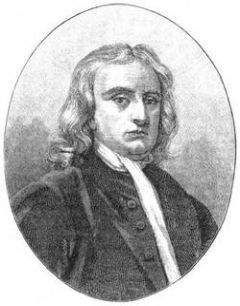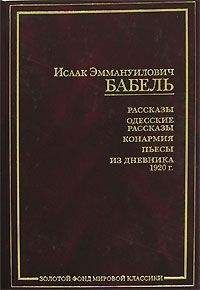Исаак Дойчер - Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940"
Описание и краткое содержание "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940" читать бесплатно онлайн.
Исаак Дойчер, автор целого ряда исторических и социологических исследований, рассматривает жизнь Троцкого сквозь формулу слов Макиавелли о том, что «вооруженные пророки всегда побеждали, а безоружные гибли». В этой книге Троцкий предстает единственным, кто открыто противостоял сталинизму, вплоть до своего трагического конца.
В талантливом изложении одного из лучших европейских исследователей вы познакомитесь с трогательной и странной историей семейных отношений выдающегося публициста и оратора.
А вот как он изображает кадетов, меньшевиков и эсеров. Милюков: «Профессор истории, автор важных научных работ, основатель партии конституционных демократов (кадетов)… совершенно лишенный того несносного, полуаристократического и полуинтеллектуального дилетантства, которое свойственно большинству русских либералов-политиканов. Милюков свою профессию воспринимал очень серьезно, и одно это уже выделяет его». Русская буржуазия его не любила, потому что «[он] прозаически и трезво, без прикрас выражал политическую сущность российской буржуазии. Пристально разглядывая себя в зеркале Милюкова, буржуа замечал, что сам он скучен, эгоистичен и труслив; и, как это часто бывает, он обижался на зеркало». Родзянко, этот лорд Чемберлен при царе, ставший одним из лидеров февральского режима, являет собой гротескную фигуру: «Получив власть из рук заговорщиков, мятежников и цареубийц, [он] в те дни имел озабоченный вид… ходил на цыпочках вокруг пламени революции, задыхаясь от дыма и приговаривая: „Пусть она сгорит до углей, а потом мы попробуем что-нибудь состряпать“.
Меньшевики и социалисты-революционеры у Троцкого, конечно, имеют мало общего с безликими эсеровскими фантомами, которых обычно изображали в сталинской и даже постсталинской литературе. Каждый из них принадлежит своей породе, но имеет свои личные черты характера. Вот, например, набросок образа Чхеидзе — меньшевистского председателя Петроградского Совета: „Он старался при исполнении своих обязанностей использовать все запасы добросовестности, скрывая постоянное отсутствие уверенности в себе за ширмой изобретательной шутливости. Он носил в себе неискоренимый отпечаток своей провинции… горной Грузии… этой Жиронды русской революции“. „Самая достойная фигура“ этой Жиронды, Церетели, провел многие годы на сибирской каторге и все же остался радикалом южнофранцузского типа. В условиях обычной парламентской рутины он чувствовал себя как рыба в воде. Но он родился в эпоху революции и отравился в юности дозой марксизма. В любом случае, из всех меньшевиков Церетели… открыл широчайший горизонт и [сильнейшее] желание проводить последовательную политику. По этой причине он, более чем кто-либо другой, поддерживал уничтожение февральского режима. Чхеидзе полностью подчинялся Церетели, хотя временами он и пугался этой доктринерской прямолинейности, которая заставила вчерашнего революционера-каторжанина объединиться с консервативными представителями буржуазии».
Скобелев, когда-то ученик Троцкого, похож на студента, «играющего роль государственного деятеля на самодельной сцене».
Что касается Либера:
«Если первой скрипкой в оркестре… был Церетели, то пронзительным кларнетом был Либер, игравший во всю мощь своих легких и до того, что кровь приливала к глазам. Это был меньшевик из Еврейского Рабочего Союза (Бунда) с долгим революционным прошлым, очень честный, очень темпераментный, очень красноречивый, очень ограниченный и страстно желающий показать себя несгибаемым патриотом и железным государственным деятелем… вне себя от ненависти к большевикам».
Чернов, бывший участник циммервальдского движения, ныне министр в правительстве Керенского:
«Скорее начитанный, чем образованный человек со значительными, но бессистемными познаниями, Чернов всегда имел в своем распоряжении безграничный набор нужных цитат, которые долгое время захватывали воображение российской молодежи, но учили немногому. Был лишь один вопрос, на который этот многословный лидер не мог ответить: кого он ведет и куда? Эклектические формулы Чернова, приукрашенные нравоучениями и стихами, какое-то время объединяли самую разнообразную публику, которая в критические моменты разбегалась в разные стороны. Неудивительно, что Чернов приятно контрастирует своими методами формирования партии с ленинским „сектантством“… Он решил избегать каких-либо вопросов, воздержание от голосования стало для него формой политической жизни… При всех различиях между Черновым и Керенским, которые друг друга ненавидели, оба они вырастали из дореволюционного прошлого — из старого вялого русского общества, из этой малокровной и надменной интеллигенции, сжигаемой желанием учить народные массы, быть их опекунами и покровителями, но при этом полностью неспособной слушать эти массы, понимать их и учиться у них».
Что отличает большевиков Троцкого от всех других партий — это как раз способность «учиться у масс» так же, как и учить их. Но они учатся и отвечают этой задаче не без нежелания и внутреннего сопротивления; и, когда Троцкий подводит итог прославлением революции и ее партии, у читателя возникает вопрос: а как долго собираются большевики «учиться у масс»? Партия, которую он нам показывает, очень отличается от «железной фаланги», которая по официальной легенде шагает вперед непреклонно и непреодолимо, свободная от всех человеческих недостатков, вперед к предопределенной цели. Не то чтобы у большевиков Троцкого не было «железа», целеустремленности и мужества; но они обладают этими качествами в дозах, присущих человеческому характеру и распределенных весьма неравномерно среди лидеров и рядовых членов. Мы видим их в ярчайшие моменты, когда, несмотря на изоляцию, оскорбления и насилие, они сохраняют надежду и продолжают борьбу. Они не имеют равных среди противников по части самоотверженной преданности делу. В их изображении всегда присутствует величие цели и характера. Но мы также видим их и в состоянии смятения и замешательства, когда их лидеры — недальновидны и робки, а рядовые члены застенчиво и неуклюже пробираются на ощупь в темноте. По этой причине Троцкого обвиняли в том, что он представляет карикатуры на большевизм. Ведь в решающий момент колебания и раскол подавляются и преодолеваются, а сомнение уступает место уверенности. То, что партии приходилось бороться с собой и с врагами, чтобы возвысить свою роль, не умаляет ее заслуг — это делает заслуги еще величественней. Троцкий не лишает политического уважения даже Зиновьева, Каменева, Рыкова, Калинина и других, которые уклонялись от риска октябрьского рывка; если его повествование и дискредитирует их, то только потому, что после этого события они выставляли себя неослабными лидерами этой железной фаланги.
«История…» выдвигает на первый план два крупных «внутренних кризиса» большевизма в год революции. В первом случае Ленин, только что вернувшийся из Швейцарии, обнародует свои «Апрельские тезисы» и политически «перевооружает» свою партию для войны против февральского режима; во втором — на предпоследней стадии революции сторонники и противники восстания столкнулись лицом к лицу в большевистском ЦК. В обоих кризисах в центре внимания долгое время находится узкий круг лидеров. Тем не менее, эти сцены запечатлены в нашем сознании так же глубоко, как и широкие, величественные картины Февральского восстания и Октябрьской революции или как несколько горестных дней июля, когда происходил спад движения. В обоих кризисах нас заставляют почувствовать, что судьба революции зависела от немногих членов Центрального комитета: их голоса решали, то ли энергия масс будет растрачена впустую, а массы разбиты, то ли двигаться к победе. Проблема масс и лидеров исследуется во всей ее остроте; и почти сразу же внимание фокусируется и сосредотачивается на единственном лидере — Ленине.
И в апреле и в октябре Ленин остается почти одиноким, непонятым и отвергнутым своими поборниками. Члены Центрального комитета готовы сжечь письмо, в котором он призывает их готовиться к восстанию; и он решается «начать войну» против них и, если потребуется, обратиться к рядовым членам партии, хотя это и запрещено партийной дисциплиной. «Ленин не доверял Центральному Комитету — без Ленина», — комментирует Троцкий; и «Ленин был не так не прав в своем недоверии». И все же в каждом кризисе он в конечном итоге убеждал в верности своей стратегии и бросал партию в бой. Его дальновидность, реализм и сконцентрированная воля возникают из рассказа как решающие элементы исторического процесса, по крайней мере, равного по важности стихийной борьбе миллионов рабочих и солдат. Если их энергия была «паром», а большевистская партия — «цилиндром», то Ленин был машинистом.
И тут Троцкий подступает к классической проблеме личности в истории; и здесь он, вероятно, наименее успешен. Его основанный на фактах отчет о деятельности Ленина безупречен. Ни на одной из стадий нельзя сказать, что здесь, в той или этой точке Ленин не действовал, а другие большевики не вели себя так, как это описывает Троцкий. Не совершает он и ошибки и не стремится представить Ленина независимым творцом событий. «Ленин не противостоял партии извне, а сам являлся ее самым полным выражением», — уверяет он нас и неоднократно показывает, что Ленин просто переводил в четкие формулы и действия те мысли и настроения, которые волновали простых людей, и что поэтому он в итоге победил. Лидер и массы действуют в унисон. В этом глубокая гармония между Лениным и его партией, даже когда у него возникают противоречия с Центральным комитетом. Точно так же, как большевизм не случайно вошел в историю, так и роль Ленина не была случайной: он был «продуктом всего прошлого… вросшим в это прошлое глубочайшими корнями». Он был не «творцом революционного процесса»; а всего лишь звеном, «великим звеном» в цепи объективных исторических причин.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940"
Книги похожие на "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Исаак Дойчер - Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940"
Отзывы читателей о книге "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940", комментарии и мнения людей о произведении.