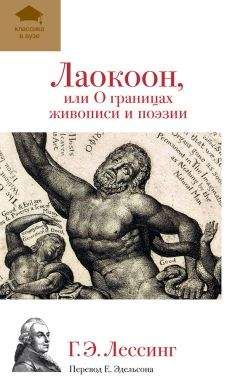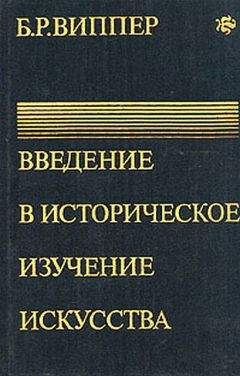Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия"
Описание и краткое содержание "Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия" читать бесплатно онлайн.
Данная хрестоматия является приложением к учебному пособию «Эстетика и теория искусства XX века», в котором философско-искусствоведческая рефлексия об искусстве рассматривается в историко-культурном аспекте. Структура хрестоматии состоит из трех разделов. Первый раздел составлен из текстов, которые являются репрезентативными для традиционного в эстетической и теоретической мысли направления – философии искусства. Второй раздел состоит из текстов, свидетельствующих о существовании теоретических концепций искусства, возникших в границах смежных с эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего раздела отобраны некоторые тексты, представляющие собственно теорию искусства и позволяющие представить, как она развивалась в границах не только философии и эксплицитной эстетики, но и в границах искусствознания.
Хрестоматия, как и учебное пособие под тем же названием, предназначена для студентов различных специальностей гуманитарного профиля.
Эстетический объект – это особый случай, поскольку он дважды связан с субъективностью: с субъективностью наблюдателя, восприятия которого он домогается, чтобы явить себя, и с субъективностью творца, активная деятельность которого необходима для его создания, и именно в ней он себя выражает, даже если творец не так уже этого хочет: ведь мы, говоря о мире Баха, Ван Гога, Жироду, называем мир эстетического объекта именем его автора, чтобы обозначить то, что выражает произведение. Это свидетельствует о глубокой связи между объектом и субъективностью: если объект способен выражать себя, если он несет в себе собственный мир, отличный от объективного мира, в котором он пребывает, то следует утверждать, что он выражает в нем то, что свойственно «для-себя», что он есть квази-субъект. Смысл, который он выражает, является для него формой его собственного тела: это – душа, откликающаяся на зов нашей души и ищущая ее, привязывающаяся к нашей душе и склоняющая ее к любви. Разумеется, мы можем смело говорить об эстетическом объекте, поскольку он есть результат созидания, которое сумело оставить на нем свой след, частицу сотворившей его субъективности – так работник оставляет свой след на том, что он произвел.
Эстетический опыт, как никакой другой, может сообщить нам о родстве между субъектом и объектом. Понимать язык эстетического объекта, читать передаваемую им информацию – значит углубляться в его внутренний мир больше, чем это может сделать познание, в мир, где субъект дистанцируется от инертного и нейтрального объекта, того, который можно ощупать руками и о котором можно помыслить. Познавать здесь – значит со-рождаться. Такого рода близость субъекта и объекта, существующая в эстетическом опыте, обязывает переформулировать идею субъекта, который не может более отождествляться с трансцендентальным субъектом. Подобное требование рождается уже при рассмотрении обычного восприятия: взаимодействие, которое я устанавливаю с воспринятым, возможно только потому, что я иду на встречу с реальным, вооружившись достигнутыми знаниями, которые воображение воскрешает при контакте с объектом; однако чтобы этот опыт состоялся, необходимо, чтобы мы уже были сцеплены с объектом. В этом суть собственного тела: чувства являются не столько аппаратами, предназначенными для улавливания образа, сколько средствами, позволяющими субъекту быть чувствительным по отношению к объекту, слиться с ним, как сливаются один с другим два музыкальных инструмента; то, что постигает тело, что оно испытывает и за что берет на себя ответственность, это нечто вроде интенции, принадлежащей вещи, ее исключительный способ существования, как говорит Мерло-Понти. Субъект как тело не является ни событием, ни частью мира, вещью среди вещей; он несет мир в себе, как и мир несет его в себе; он познает мир в акте, в котором выступает как тело, и мир познает себя в нем. Этот союз жизненной интенциональности расторгается только тогда, когда диалектика восприятия ведет к представлению, в котором субъект осознает свое отношение к объекту, ставит вопрос о явленности и отличает воспринятое от реального.
Однако этот союз возрождается в эстетическом опыте. Разумеется, данный опыт составляет момент рефлексии и научения, поскольку истина эстетического объекта предстает перед нами в виде требования и нам надлежит научиться правильному восприятию, чтобы сделать и его правильным, – так исполнитель научается работать с инструментом…
Субъект способен на чувство, если только он является конкретным, подлинно человеческим субъектом, прежде всего, как мы только что сказали, если он телесно присутствует в объекте; далее, если он присутствует полностью, со всем своим прошлым, включенным в настоящее созерцания, отдавая в распоряжение объекта всю свою субстанцию, чтобы тот отзывался в ней; наконец, если он присутствует в качестве, скажем, чувствующего в чувственном, то есть вместе с виртуальным познанием аффективных значений, которые предлагает эстетический объект….
Аффективные свойства, раскрываемые эстетическим опытом, образуют специфические a priori. Прежде всего, если следовать самому что ни на есть традиционному смыслу, эти a priori образуют объект виртуального познания, который проясняется в опыте и без которого этот опыт был бы невозможен: те, кто могут почувствовать трагическое Расина, патетическое Бетховена или умиротворенность Баха, обладают идеей трагического, патетического или умиротворенного, предшествующей любому чувству; однако это виртуальное знание не является некой сущностью, помещенной в их разумение, оно – скорее априорный вкус, позиция и, в конечном счете, определенный экзистенциальный стиль их личности. Разве личность не признается себе в том, что она способна чувствовать? С другой стороны, эти a priori обладают космологическим значением: аффективное свойство как некое пред-знание, которое актуализируется в опыте, принадлежит не только наблюдателю; оно присутствует также и в эстетическом объекте в качестве того, что дает ему форму и смысл, что конституирует его как способного обладать миром. Умиротворенность есть a priori конституирующее произведения Баха, так же как пространственность есть a priori, конституирующее предметы внешнего опыта и вместе с тем способ бытия субъекта как способного к пространственности.
Таким образом, a priori – в эстетическом опыте это аффективное a priori – определяет одновременно и субъекта, и объект. Именно поэтому оно включено в понятие интенциональности: отношение между субъектом и объектом, которое определяет это понятие, предполагает не только то, что субъект открыт объекту, или трансцендирует в направлении к нему, но также и то, что нечто от объекта присутствует в субъекте до всякого опыта, и наоборот, что-то от субъекта принадлежит структуре объекта до любого проекта субъекта. А priori – это нечто общее, в силу чего оно есть инструмент коммуникации: именно об этом говорит теория интенциональности. В свою очередь такая концепция a priori проясняет интенциональность. Свидетельствуя о родстве между субъектом и объектом, она выступает одновременно и против натурализма, согласно которому субъект является продуктом мира, – утверждая, что субъект способен противостоять миру, и против идеализма, согласно которому мир является продуктом субъекта, – полагая, что объект содержит в себе свой смысл.
Dufrenne M. Esthetique et philosophie.
P., 1967.
(Перевод И. С Вдовиной)Бердяев Н.А. Кризис искусства
Книга Н. А. Бердяева «Кризис искусства» вышла в 1918 году. Опираясь на опыт искусства начала XX века, в ней философ пытается осмыслить кризис искусства и понимаемого им в широком смысле творчества, что было предметом рассмотрения в его предыдущем философском исследовании «Смысл творчества» (1916). Пытаясь обнаружить аналогии развертывающемуся в искусстве кризису и находя их в истории культуры, Н. Бердяев, однако, убежден, что кризис искусства начала прошлого столетия не имеет в истории прецедентов. В данном случае можно констатировать полное отрицание принципа преемственности в развитии искусства. Прежде всего, именно искусство нового столетия впервые демонстрирует радикальный разрыв с той основополагающей традицией, что берет начало еще в Античности. Так, фиксируя в новом искусстве потребность проникнуть за материальную оболочку вещей, потребность в дематериализации природного и предметного мира, Н. Бердяев говорит, что именно в этом и проявляется разрыв с Античностью, с таким значимым для этой культуры принципом, как мимесис. В христианском мире возрождение, обращенное к Античности, оказывалось все еще возможным. В Ренессансе формы человеческого тела оставались неприкосновенными и неразложимыми. «Человеческое тело – античная вещь. Кризис искусства, при котором мы присутствуем, есть, по-видимому, окончательный и бесповоротный разрыв со всяким классицизмом» (с. 409).
В XX веке искусство не только кардинально изменяется, но и выходит за свои традиционные границы. Радикально изменяются отношения между художественными и нехудожественными сферами. Кроме того, заметно видоизменяется и иерархия в системе видов искусства, и отношения между этими видами. Так, музыка начинает задавать тон другим искусствам, а архитектура утрачивает свой былой статус. Актуальной становится проблема синтеза искусств, т. е. использование форм, присущих какому-то одному виду искусства другими искусствами. В качестве примера философ приводит творчество Чюрлениса. Однако помимо синтетических образований искусство демонстрирует склонность к аналитическим поискам, к дифференциации, к преодолению и разложению сложившихся в каком-то виде искусства привычных норм. Например, это положение философ демонстрирует с помощью кубизма и футуризма. Так, по мнению философа, кубизм тяготеет к дематериализации предметно-чувственных форм. Склонность к дематериализации, развоплощению живописи иллюстрируется с помощью полотен Пикассо, в которых сдирается кожа вещей и улавливается тяга к тому, чтобы добраться до их скелета. Это означает возращение к так называемому геометрическому стилю как наиболее архаической художественной форме.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия"
Книги похожие на "Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия"
Отзывы читателей о книге "Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия", комментарии и мнения людей о произведении.