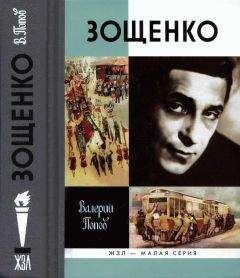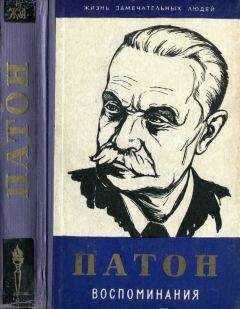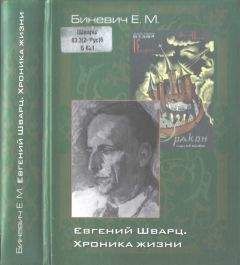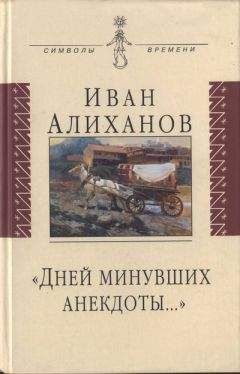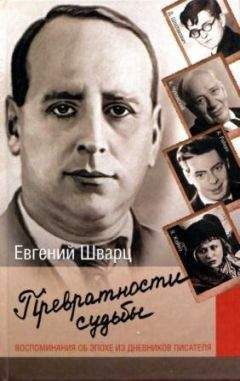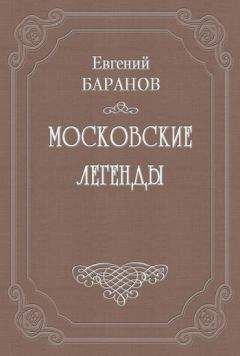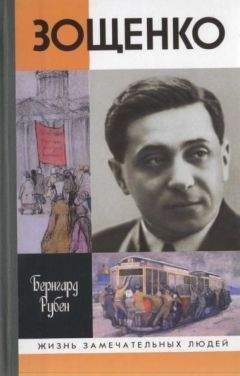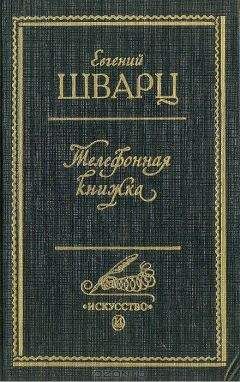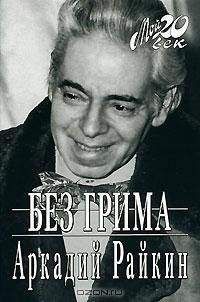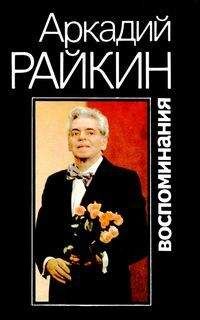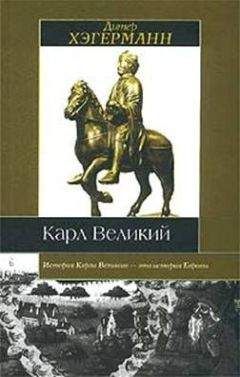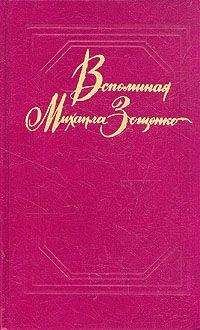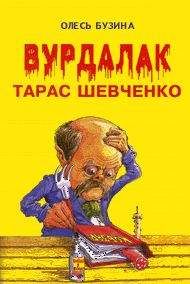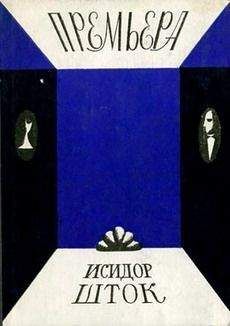Евгений Шварц - Позвонки минувших дней

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Позвонки минувших дней"
Описание и краткое содержание "Позвонки минувших дней" читать бесплатно онлайн.
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Не брезговали даже таким мелким отличием, как шарж. «Братцы, видали, как меня этот гад изуродовал! Талантливый парень, глядите, схватил что‑то мое, сукин сын!» Я был на съезде с правом совещательного голоса, лицом вполне незаметным. Тем не менее, я был записан в списки выступающих. Ленинградцы считали, что я хорошо говорю. Выступать мне и хотелось, и нет. Слушал Горький, человек из другого мира: он знал Чехова, дружил с Буниным, его трудно было воспринимать и разглядывать по — человечески. Явление. Когда он шел к столу президиума особенной повадкой своей, усами вперед, высокий, сутулый, отлично одетый, в сером костюме и голубой рубахе, я сосредоточивался в бесплодном, неразрешимом желании понять человека по лицу, по наружности — и уставал от этого. Портреты, рассказы о нем, его рассказы, мое отношение к его книжкам, он живой за столом — перемешивалось и никак не хотело соединиться в одно целое представление. Приехали пионеры, гости на съезд откуда‑то с дальнего Севера, и Горький снимался с ними. Я стоял у эстрады в концертном зале Дома Союзов, где происходили заседания съезда, и все глядел на Горького. Вот он уселся посреди ребят, обнял одного мальчика за плечи — и тот вдруг заплакал, потрясенный этим событием. Прослезился и Горький. И когда рассказал я Мише Слонимскому об этом маленьком происшествии, он засмеялся беспомощно, как всегда, когда его нечто задевает за живое, и сказал о Горьком раз тридцать в течение часа, как всегда, бесконечно возвращаясь к тому, что его беспокоит: «Алексей Максимович не знает собственных масштабов. Он не знает собственных масштабов. Старик не знает собственных масштабов!» И вот при нем выступать? А как поймет он меня? Вот выступает Леонид Соболев, простой, толстомордый, породистый.
Я отношусь к нему дружелюбно, как большинство его знакомых, но речь его кажется мне приблизительной и относительной. Особенно фраза насчет того, что писателям даны все права, кроме одного — писать плохо. И скоро выясняется, что именно эта сентенция необыкновенно понравилась Горькому. И все стали повторять эти слова со значительным видом. И знакомый страх, страх одиночества, охватил меня. Или я сумасшедший, а все нормальные, либо я нормален, а все сумасшедшие, и неизвестно, что страшнее. Выступать или нет? И привычное желание уклониться побеждает. Встретив у комнаты президиума, у высокой, холодной, дворцовой с золотыми украшениями двери Николая Тихонова, я прошу вычеркнуть меня из списка ораторов. Он улыбается. Его деревянная, длинная маска вдруг без малейшего скрипа расходится и изображает насмешливую улыбку: «Мы тебя еще вчера вычеркнули». И я, к величайшему удивлению своему, вместо облегчения чувствую укол в сердце. Утешаюсь я, увидев, как в конце съезда Браун, обычно пыльный, тихо недовольный, тут устраивает громкий скандал, требует, чтобы ему дали слово, хотя все уже проголосовали за то, чтобы закрыть прения. И он добивается своего, и, к общему удивлению, появляется на эстраде, и громко говорит речь, и никто его не слушает. Впрочем, сегодня его поведение кажется мне более последовательным, чем мое. Вступил в игру — играй. А рассуждать на футбольном поле о бессмысленности желания забить мяч в ворота — еще глупей, чем гоняться за мячом. Оправданием мне может служить одно: меня занесло в игру. Итак — съезд приближался к своему концу.
О банкете я уже рассказывал. Кроме этого праздника было нам еще угощение — дали пропуск в какой‑то закрытый распределитель, где я думал — думал и купил вдруг патефон с пластинками и очень хорошей металлической мембраной. Ко мне в номер на Дмитровке зашли Николай Макарович и Петр Иванович. Оба не в духе, оба настроены недоверчиво. Я сразу почувствовал себя виноватым и заговорил на соответственный лад, отчего они настроились еще более беспощадно. Я завел патефон. Петр Иванович покачал головой задумчиво и укоризненно и разъяснил, что никуда не годится этот патефон. У настоящих, последнего образца патефонов звук так силен, что около сидеть невозможно, надо крышкой прикрывать. «Какие еще есть пластинки?» — спросил Олейников. «“О, эти черные глаза”». — «Чего же ты молчал? Ставь!» И эта пластинка зазвучала вдруг так сильно, что невозможно было сидеть около, пришлось опустить крышку. Я торжествовал, а гости молчали угрюмо, взъерошенные, усталые после московской жизни, которую вели где‑то за пределами моей досягаемости. Олейников, по — моему, на съезде побывал всего два — три раза, а то все где‑то гулял. Жил как хотел. И после ухода их я испытал еще острее все то же чувство одиночества. Нигде у меня не было друзей. Всех я раздражал, как человек, который станет в дверях и стоит нерешительно: не входит и не уходит. Когда возвращались мы в Ленинград, весь вагон был занят писателями. В купе, где ехал Герман, патефон играл танго.
И, войдя к нам, Юрий Павлович сказал решительно и страстно, как бы сообщая заветные свои убеждения, что фокстроты — это дрянь, а вот танго — это лучшее, что есть среди пластинок. И вообще, танго — прекрасная вещь.
И вот я вхожу во двор нашего дома, еще непривычного мне. Катюша приезжала со мной на съезд, но уехала скоро. Она ждет меня, сидит на окне, я вижу ее с середины двора. Я показываю ей патефон, она улыбается мне, но чуть — чуть, и я угадываю, что она еще не совсем оправилась после своего обычного нездоровья. Шесть — семь дней каждый месяц лежит она под морфием в мучениях, и мы так привыкли, что считаем это в порядке вещей. Но она радуется мне. Удивляется, что я привез патефон — I это не в наших привычках. Я завожу «У самовара я и моя Маша», j и вместе с этой песенкой в маленькую нашу квартиру входит ощущение съезда — холодного парада враждебных или безразличных лиц. Но постепенно он уходит в прошлое. Первым секретарем ССП был Щербаков[80], один из секретарей ЦК. Он долго приглядывался к писателям, а потом, по слухам, признался кому‑то из друзей: «Много раз приходилось мне руководить, но таких людей, как писатели, не встречал. По — моему, все они ненормальные». Вот и все о съезде…
Я подошел к той самой черте, через которую мне не переступить, рассказывая. Началась жизнь наша в надстройке. Продолжалась она двадцать один год, считая три года эвакуации. Спокойной она была недолго. Вечером 1 декабря 1934 года раздался стук в дверь, словно судьба постучала. Вестником оказался бледный, золотушный, тощий, страшный в своей слабости Евгений Люфанов. Полный скорби, а вместе с тем оживления, как человек, приносящий удивительные, хоть и страшные новости, он сообщил, что сегодня в Смольном убит Киров и в чьей‑то квартире или в конторе собрание всех жильцов надстройки. Все были растеряны. Никто ничего не понимал.
Кто‑то произнес речь, что это, наверное, диверсия, скорее всего финской разведки. На похороны, точнее, на прощание с телом Кирова, выставленным в Таврическом дворце, шли мы вечером по улице Воинова. Чем ближе к дворцу, тем теснее, страшнее. Никакой попытки установить порядок. Вскрикивают женщины. Брань. Сплошное человеческое месиво. Ходынка! Я еле протискался в сторону, в боковой какой‑то переулочек. И бежал от ощущения безнадежности, смерти, безумия толпы, которая сама себя душит. Вышел на Неву, отбиваясь от этого ощущения, но оно не проходило, хоть шагал я по набережной в одиночестве. Так и не видел я страшного зрелища: убитый в гробу, над гробом правительство и бюро горкома. Члены бюро, попадая в почетный караул, плакали. И безостановочно, по четыре в ряд двигающиеся ленинградцы, косящиеся на гроб в цветах, на Сталина, на плачущих членов горкома. Как всегда, в роковые для города дни вдруг ударил небывалый мороз. Когда увозили тело Кирова в Москву и начались аресты бывших дворян и вообще бывших, а потом не понятные никому в первые недели аресты членов горкома, тех самых, что плакали над гробом, — в эти самые роковые дни подготовлен был к открытию Дом писателей имени Маяковского. Решено было открыть его под Новый год. Сначала думали, что по случаю траура открытие отменят, однако последовало распоряжение — открывать. Собралось городское начальство — и все оно исчезло навеки через несколько дней. Так шла жизнь в большом мире, еще тенью только падая на наш малый. У нас вдруг наладились или стали налаживаться денежные дела. Когда мы переехали, то и на обед не было. Я взял выигрышный билет займа, тираж которого только что прошел, и отправился в сберкассу, в Дом книги. И, к изумлению моему, выяснилось, что на единственный этот наш билет пал выигрыш! И я принес домой 175 рублей, тогда порядочные деньги. Вскоре предложили мне работать на «Ленфильме».
И с деньгами вдруг стало куда благополучнее. Первое лето мы никуда не уезжали. Потом потянулась зима 35–го года, связанная с Домом писателей. По неуважению к себе я втянулся в работу для Дома писателей больше, чем следовало бы. Писал программы для кукольного театра — художники сделали куклы всех писателей, выступал, придумывал программы. Спасало, что мне было весело. Что делалось вокруг? Темнело. И мы чувствовали это, сами того не желая. Летом 35–го года уехал я в Грузию… Катюша встречала меня на этот раз на вокзале — бледная и худая, только что поднявшаяся после болезни. Болезнь все пронизывала насквозь нашу жизнь. А надстройка начала понемногу терять жильцов, так дружно переехавших в один день и час. Едва мы успели прижиться. Едва — едва начали жильцы нижних этажей привыкать к нам, что было нелегко. Однажды шел я сквозным коридором третьего этажа. Вижу — две старухи стоят, разглядывают мокрое пятно, выступившее на потолке. И ругают писателей: «Это они протекают, проклятые». С такой страстью, так неистово бранились они, что я даже испугался. Но вот и они притерпелись. Наладился водопровод, перестали протекать трубы. Но солдатское лицо нашего коменданта Котова потемнело. Он стал здороваться строго, будто мы проштрафились в чем‑то загадочном, известном ему одному. Очевидно, где‑то в не доступных нам глубинах он получил соответствующие сведения. Был выслан несчастный Венде, высокий, мягкий, простодушный. Посадили группу молодых писателей. Среди них Острова — опустела первая квартира в нашем отсеке. В 36–м году жили мы с месяц в Александровке, на даче Литфонда. И с удивлением заметил я, что один из крупных деятелей сгущающегося мрака дома прост и ясен. Следовательно, убивает с чистой совестью. Мы решили, несмотря на Катину болезнь, уехать на юг, в Сухуми. И уехали.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Позвонки минувших дней"
Книги похожие на "Позвонки минувших дней" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Шварц - Позвонки минувших дней"
Отзывы читателей о книге "Позвонки минувших дней", комментарии и мнения людей о произведении.