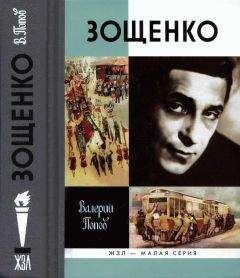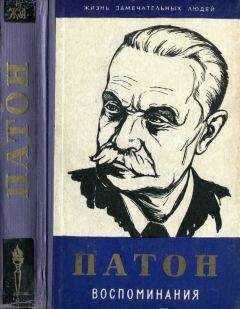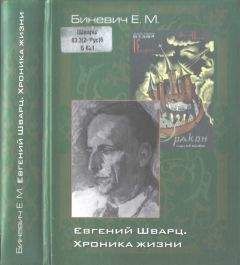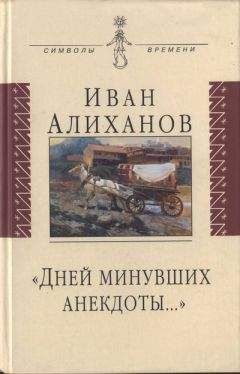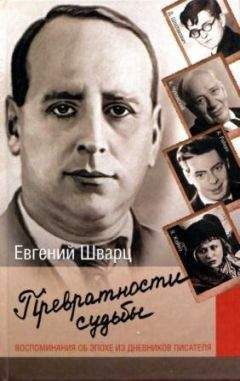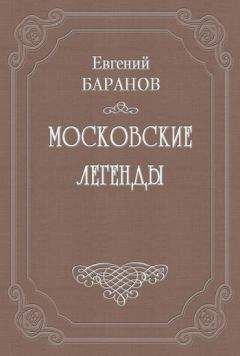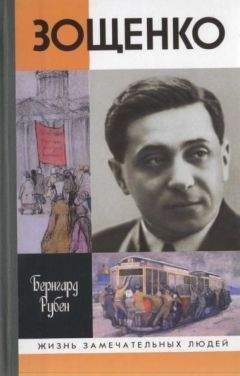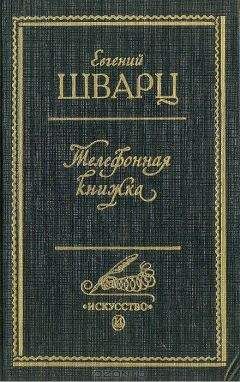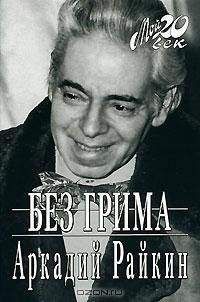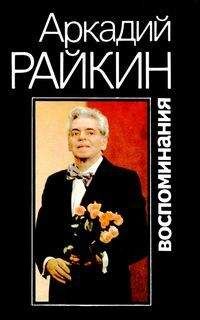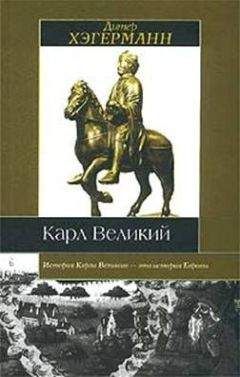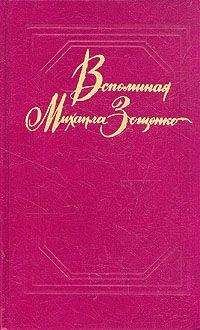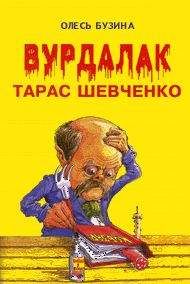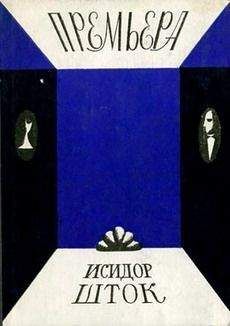Евгений Шварц - Позвонки минувших дней

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Позвонки минувших дней"
Описание и краткое содержание "Позвонки минувших дней" читать бесплатно онлайн.
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Продолжаю рассказывать о поездке в Комарово. Шоссе бежит по последней улице Разлива. Маленькие, старательно выкрашенные дачки со стандартными заборами. Направо, за коротенькими переулками, поблескивает озеро. Улица упирается в широкую деревянную водосбросную плотину. От нее влево к морю по широкому руслу то бежит, прыгая по камням, целый поток воды, то поблескивают лужицы. Водосбросный канал идет до самого моря. Впрочем, недавно я узнал, что это не канал, а река Гагара. Шоссе, нет, не шоссе, путь наш пересекает широкую плотину, и шоссе, обогнув озеро, круто поворачивает вправо. На этом повороте густо растут ивы особенного вида — с листьями серебристыми, как у маслин в Новом Афоне. Блеск воды, асфальт, серебряные деревья в два ряда у озера, деревья сада за решеткой напоминают юг, радуют, начинается новая сестрорецкая дорожная жизнь. Значительно ниже шоссе, за площадкой в цветах — красное кирпичное здание старинного сестрорецкого завода, совсем не похожее на завод. Базарная площадь. Улица в деревьях. Это видят все. А я каждый раз вижу то, что тут пережито мною.
Сегодня у нас серебряная свадьба[165]. Гостей не будет — Катюша больна. И я не огорчен, что гостей не будет. Вчера вечером попробовал написать первую сцену «Дон Кихота» и очень доволен собой, даже спал лучше, чем всегда, и проснулся с ощущением счастья.
Продолжаю рассказывать. Улицы Сестрорецка вот тут, в центре, возле рынка, связаны у меня со множеством, не знаю, как назвать, не воспоминаний, а представлений не менее известных, чем те, которые переживаю, проезжая тут сегодня. Вот я вижу, как идем мы с Катюшей в крытый рынок, ныне не существующий. Очередь в полупустой мясной ларек. С некоторым ужасом решаюсь я на покупку четырехсот грамм легкого для кошки нашей. Капризная Васенка наша отказывается есть. Ничего в этом воспоминании нет веселого. Почему же вспоминаю я с такой радостью тускловатый по — северному, но солнечный день, сетку с покупкой в руках, вялого, ошеломленного скудностью своих товаров мясника. И свою комнату на чердаке и особый чердачный запах — глины и дыма. И Васютку, с достоинством отступающую от покупки. И все это слито вместе: рынок, улицы, дом, чердак — слиты в веселое ощущение, полное жизни. Что‑то происходило с душой неосознанное, но важное в это мгновение. И, по — видимому, счастливое. И еще: мы с Катюшей идем от рынка, мимо дома с высоким, ступенек в десять, крыльцом и замечаем, что центр Сестрорецка вымощен кладбищенскими плитами. И положены они отшлифованной стороной кверху. То есть той стороной, на которой надгробные надписи. И мы читаем, что здесь покоится тело надворного советника такого‑то, скончавшегося в 1840 году. А рядом плита, покрывавшая некогда могилу второй гильдии купца. Вся панель из каменных прямоугольников с надписями…
Так как кроме своих воспоминаний имеются у нас еще и чужие, у меня во всяком случае, то, проезжая мимо дачи Чуковских, вспоминаю я и его детство. Однажды, давным — давно, в двадцатых годах, при первом знакомстве, Стенич сказал Коле что‑то до крайности оскорбительное, как он это умел. И Коля, дня через два рассказывая об этом, признался, что был глубоко задет. «А потом подумал — а что он знает обо мне? Разве он знает мое детство, дорожки, по которым я ходил в Куоккале?» И эти слова о дорожках почему‑то сильнейшим образом тронули меня, подействовали на мое воображение. И я всегда оглядываюсь на высокую двухэтажную дачу под высокими деревьями. По словам Коли, местность стала в наше время красивее. Шоссе пролегло на месте бывшей пыльной проселочной дороги. Исчезли мелкие летние дачки, что теснились вдоль дороги…
Мы вчера приехали в Комарове. Печь топили. Спал я с открытой форточкой, и разбудило меня движение, шорох, трепетание между окном и занавеской. Еще не проснувшись, угадал я причину — птица влетела в открытую форточку и не может найти выхода. И в самом деле, синичка сидела на занавеске, глядела на меня одним глазом и запищала и заметалась, когда я подошел к окну. Я вспомнил, что Бианки советовал говорить с птицами ласково, они по музыкальности своей чутки к интонациям. Но уговоры мои не действовали, и, пока я не открыл окно, что удалось не сразу, птица все металась и пищала в отчаянье. А когда открылось окно, синица исчезла так беззвучно, что я не поверил себе, поискал еще ее между занавесками. Ворона трижды каркнула, когда открылось окно, и мне вспомнилось, что дома у нас считалось дурной приметой, если птица залетит в комнату. Небо ясное, на землянике — иней. Тополя под окнами и кусты еще зеленые, ни одного желтого листика. Едва кончилось происшествие с птицей, как мне пришлось одеваться — кот поднял крик. Я вышел с ним, думая о приметах. Верю я в них или не верю? Так интересно думать, что и в самом деле существуют финские колдуны. Пошатываясь, ходил наш больной кот под кустами, все приникая вплотную носом к веткам. И открывал рот. Дыхание захватывало. Кошки бродили тут ночью. А я глядел и думал о пяти годах, прожитых тут. Прежде мы уезжали куда‑нибудь каждое лето, а теперь все не трогаемся с места. И от этого слились все годы в одно целое. Трудно, вспоминая, разделить годы. Сначала — Рахманов, Пантелеев. Попытка писать повесть. Длинные прогулки, когда еще не было чувства пустоты в лесу и на море, какое овладело мной в прошлом году. Отъезд Наташи в Москву, ее замужество — это до окончательного переселения сюда.
Вспоминаю эти пять лет. Бывал ли я за эти, сбившиеся в один ком, дни счастлив? Страшно было. Так страшно, что хотелось умереть. Страшно не за себя. Конечно, великолепное правило: «Возделывай свой сад», но если возле изгороди предательски и бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, становишься соучастником убийц. Но прежде всего — убийцы вооружены, а ты безоружен, — что же ты можешь сделать? Возделывай свой сад. Но убийцы задушили не только людей, самый воздух душен так, что, сколько ни возделывай, ничего не вырастет. Броди по лесу и у моря и мечтай, что все кончится хорошо, — это не выход, не способ жить, а способ пережить. Я был гораздо менее отчетлив в своих мыслях и решениях в те дни, чем это представляется теперь. Заслонки, отгораживающие от самых страшных вещей, делали свое дело. За них, правда, всегда расплачиваешься, но они, возможно, и создают подобие мужества. Таковы несчастья эти, и нет надежды, что они кончатся. Еще что? С удивлением должен признать, что я все же что‑то делал. Заставил себя вести эти тетради каждый день. Написал рассказ о Житкове, о Чуковском, о Печатном дворе, о поездке поездом в город — это уже переписано, а в тетрадях почти все готово, нуждается только в переписке, написано много больше. О Глинке, о Шкловском, о путешествии по горам. Не считая беспомощного, но добросовестного рассказа о себе от самого раннего детства до студенческих лет. Точнее, до конца первой любви. Тут я сказал о себе все, что мог выразить. И сознательно ничего не скрыв. Получилось вяло от желания быть правдивым, но часто и правдиво. Дописал я «Медведя», который сначала радовал, а теперь стал огорчать. Переписал сценарий «Водокрута» — недавно. Написал «Два клена», что далось мне с трудом. Сначала получилась, а точнее, не получилась пьеса «Василиса Работница», и только в прошлом году — «Два клена». И работал для Райкина, с ужасом.
В общем, перебирая все, что написал за эти пять лет, я не без удивления замечаю, что это не так уж мало. Но успеха, как до войны или с «Золушкой» после — я не видел. Более того. Гурко и Нагишкин, из которых последний упорно и настойчиво на совещании по детской литературе, потом в «Комсомольской правде», потом в «Новом мире» поносил меня всячески. И при том до такой степени удушливо, что хоть дерись, а не станет легче. Нет, тяжелое время прожил я тут. А болезнь Катюши. А смерть Тони. Нет, лучше уж вспоминать другие времена. В Союзе, куда мне предстоит сегодня ехать на заседание ревизионной комиссии, любят говорить мне при встрече одну и ту же фразу: «Тем, что вы живете в Комарове, вы продлили себе жизнь». И фраза эта своей глупостью, скудостью и узостью каждый раз действует на меня угнетающе. Во — первых, я не чувствую необходимости принимать меры для продления жизни. Не потому, что собираюсь помирать, а как раз потому, что не собираюсь. Во — вторых, жизнь определяется не свежим воздухом и здоровым климатом. Уйти от чувства, что за забором сада, который тебе положено возделывать, кого‑то душат, невозможно. И тревога пополам с унынием не рассеивается, когда живешь в дачном поселке. Именно в Союзе ощущение удушливости особенно отчетливо. Именно там оно и вырабатывается. И именно там с идиотским упорством повторяют, что я, счастливец, продлеваю свою жизнь в Комарове… При всем рассказанном я чувствую, что могу работать. Прошлогоднее затмение рассеивается. Как будто что‑то вернулось в Комарово — бродить стало интересно, как в первые годы. Жизнь продолжается.
Вчера вечером прочитал начало сценария Пантелееву и, как всегда, стал сомневаться после чтения, так ли следует начинать[166]. И придумал новое начало. И сегодня все время о нем думаю. А что, если начинать всю историю с того, что Дон Кихот останавливается на перекрестке четырех дорог, пробует прочесть надпись на придорожном камне и обнаруживает, что она давно стерлась. Тогда, по рыцарскому обычаю, бросает он поводья на шею коня — пусть Росинант приведет к подвигам. Но Росинант заснул. И никуда не хочет идти. И мимо рыцаря, прикованного к месту, проходят различные люди, из разговоров с которыми и выясняется, кто он и что он. И все думаю я на этот счет, и думаю, и не могу решить. Во всяком случае, попробую я это начато сделать. Проходят мимо козопасы с копьями, проезжают молодые, и наконец Самсон Карраско. Этот уверен в превосходстве науки над мечтаниями. И, может быть, в финале встречаются они на перекрестке еще раз. Ты возьмешь у меня знаний, а я у тебя научусь ненависти к злу, и любви к добру, и любви к действию. Вчера я почти целый день пробыл в городе. Заседал секретариат, и ревизионная комиссия на нем присутствовала. Сильно побелевший и с мешками под глазами Кочетов. Побелевший лицом. Еще побелевший, он всегда был бледен. Тощелицый, хитрейший и легковеснейший Дудин. Еще и рябой при этом. Он все заседание писал эпиграммы, и рисовал карикатуры, и писал записки разным людям — вел себя, как неусидчивый, плохой мальчик. А когда говорил по делу, то казалось, что это фальшивка. Все это не беда — не скрывайся за этим и робость, и трижды хитрость. Рассмешив — обезоружить. И он в дружбе с черносотенцами.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Позвонки минувших дней"
Книги похожие на "Позвонки минувших дней" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Шварц - Позвонки минувших дней"
Отзывы читателей о книге "Позвонки минувших дней", комментарии и мнения людей о произведении.