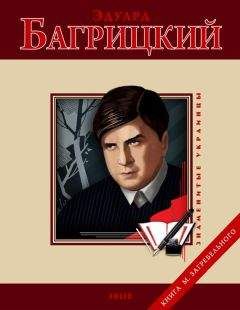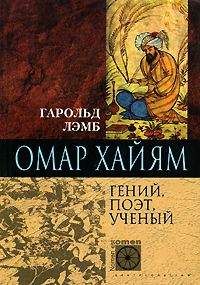Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Описание и краткое содержание "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать бесплатно онлайн.
Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан Волошин — поэт, художник, антропософ, масон, хозяин знаменитого Дома Поэта, поэтический летописец русской усобицы, миротворец белых и красных — по сей день возбуждает живой интерес и вызывает споры. Разрешить если не все, то многие из них поможет это первое объёмное жизнеописание поэта, включающее и всесторонний анализ его лучших творений. Всем своим творчеством Волошин пытался дать ответы на «проклятые» русские вопросы, и эти ответы не устроили ни белую, ни красную сторону. Не только блестящий поэт, но человек необычайной эрудиции, разносторонних увлечений, «внепартийной» доброты, в свою жизненную орбиту он вовлёк многих знаменитых людей той эпохи — от Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, О. Мандельштама, А. Толстого… до террориста Б. Савинкова, кровавого большевика Б. Куна и других видных практиков революции. Жизнь и творчество поэта — это запечатлённая хроника трагедии «России распятой».
Победно-мученический (подобный Святому Георгию) образ Лебединого стана («Семь мечей пронзали сердце…»; «…И взойдёт в Столицу — Белый полк!») сменяется трагически-обречённым, уходящим («Об ушедших — отошедших — / В горний лагерь перешедших…»; «Кончена Русь!»). В книге Цветаевой отсутствует волошинский синтез: рождение — через огонь Святого Духа, через муки и безумие — новой России на пепелище старой. И лишь в последнем стихотворении («С Новым годом, Лебединый стан!»), закономерно отталкивающемся от предыдущего («Плач Ярославны»), ощущается своеобразный катарсис («С Новым годом, молодая Русь / За морем за синим!»), который, впрочем, только отчасти «просветляет» безысходный мрак Истории.
Одностороннюю позицию (гражданскую и творческую) занимал и поэт Николай Туроверов, донской казак, участник Белого движения. Офицер лейб-гвардии Атаманского полка, подобно лирическому герою «Лебединого стана», пережил все перипетии Ледяного похода, трагедию «Добровольческой Голгофы». Эмигрировал в Париж, в литературных кругах которого не прижился. «Со свойственным парижским поэтам снобизмом от него отмахивались, как от „Казачьего“ поэта», — отмечает Г. Струве. Однако виднейший критик русского зарубежья Г. Адамович назвал Туроверова талантливым поэтом, выделив в качестве основной доминанты его творчества «мужественность». Действительно, мужественно-стоическое приятие «шальной судьбы» — своей страны и личной — определило настроение большинства произведений Н. Туроверова. Причём мужественности, по его словам, он учился у Гумилёва.
Н. Туроверов ощущает себя как бы «внутри» исторического катаклизма. Эпохальные события Гражданской войны он воспринимает через мудрость казачьего Круга и пылкость легендарного Платова, сквозь стремительную иноходь коня и блеск шашки, собственный военный азарт и честь белогвардейца. Вот характерные строки из поэмы (цикла стихов) «Новочеркасск» (1922):
Дымилась Русь, горели сёла,
Пылали скирды и стога.
И я в те дни с тоской весёлой
Топтал бегущего врага,
Скача в рядах казачьей лавы,
Дыша простором диких лет —
Нас озарял забытой славы,
Казачьей славы пьяный свет…
И сердце всё запоминало, —
Легко рубил казак с плеча,
И кровь на шашке засыхала
Зловещим светом сургуча.
«Походов вьюги и дожди» (и здесь — «вьюги»), «снега корниловской Кубани», «хмель сражений» на Дону и в Крыму, «беспокойный дух кочевий», «свирель прадедовского края» — всё это составляет основную тематику творчества Туроверова. Лирические настроения поэта обусловлены горечью утраты — родной станицы, с душистыми стогами и криком перепелов, а в более широком смысле — России, могучей державы, на которую обрушился и которую захлестнул «орды девятый вал».
Из крупных поэтов, за исключением, пожалуй, Маяковского, мало кто рассматривал события революции и Гражданской войны столь пристально и объёмно, как Волошин, Цветаева или Туроверов (хотя сопоставление Волошина с кем-либо в этом отношении принципиально невозможно — «как в смысле качества, так и количества написанного»). Роковой «роман» с «Девой-революцией» пережил Александр Блок, пройдя через «тоску, ужас, покаяние, надежду». В своей программной статье «Интеллигенция и революция» (1918) он призывает слушать её «всем телом, всем сердцем, всем сознанием». Блок высказывает мысль, под которой вполне мог бы подписаться и Волошин: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой». И всё же в принципиальных моментах постижения событий расхождение двух поэтов очевидно. Блок призывал к «примирённости музыкальной» с ходом истории, отмечал, что, «вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков». (Ответ на анкету «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» 14 января 1918 года.) Об отношении Волошина к русской интеллигенции уже говорилось, о его трактовке большевизма речь ещё впереди. В происходящем он чувствовал не музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух», а провиденциальную неизбежность (впрочем, мистериально-телеологический подход к теме России, апокалиптический ракурс восприятия событий были в определённой степени характерны и для Блока). А. Блок стремился принять революцию сердцем (и сердце не выдержало); М. Волошин воспринимал случившееся высшим разумом, космически (конечно же и сердцем тоже).
Завершающим актом «романа» Блока с революцией стала поэма «Двенадцать» (1918). Споры по поводу трактовки поэмы велись с момента её выхода. Вопрос упирался в толкование заключительной триады образов: Христос — двенадцать — «голодный пёс». Возглавляет ли Иисус Христос революционное шествие, освящая собой путь в новое будущее, или же его под конвоем препровождают на казнь, что являет собой обречённость Истины в условиях «страшного мира»? В оценке «Двенадцати» Блока критики занимали прямо противоположные позиции, предлагая взаимоисключающие трактовки. Поэта иногда сопоставляли с Цветаевой: красногвардейцев Блока ведёт Иисус Христос; белогвардейцев Цветаевой — Богородица.
Пожалуй, наиболее глубокое проникновение в художественный мир «Двенадцати» мы находим у Волошина. Он оценивает произведение Блока как «одно из прекрасных художественных претворений действительности». Блок в восприятии Волошина остаётся и здесь поэтом «Прекрасной Дамы» и «Снежной маски»: всё тот же вьюжный фон, перезвон ледяных колокольчиков, «та же симфоническая полнота постоянно меняющихся ритмов, тот же винный и любовный угар, то же слепое человеческое сердце, потерявшее дорогу среди снежных вихрей, тот же неуловимый образ Распятого, скользящий в снежном пламени». Подобно Прекрасной Даме, блоковский Христос «сквозит сквозь наваждения мира». Красный флаг в его руках — новый вариант креста, «символ его теперешних распятий». Красноармейцы, считает Волошин, одновременно преследуют Иисуса Христа и нуждаются в нём, а саму поэму следует понимать как «трагедию отдельной человеческой души, кинутой в тёмный лабиринт страстей и заблуждений и в нём потерявшей своего Христа, как для Блока в данном случае».
«Двенадцать» нередко соотносят с поэмой Андрея Белого «Христос воскрес!», написанной в том же году. Белому, как и Волошину, был свойствен космический взгляд на события. Как некий синтез возвышенной скорби и софийного всеприятия.
Поэму «Христос воскрес!» литературовед С. П. Ильёв оценил как «мистериальное действо космического преображения мира в результате исторической катастрофы». По мнению учёного, Белый отталкивается от смутного финала блоковской поэмы: «Второе пришествие Иисуса Христа в грозе и буре космических и социальных стихий и уводимые им двенадцать красногвардейцев от революционного действия в Ничто. В поэме „Христос воскрес!“ именно социальная революция представлена как проявление мировой мистерии страстнотерпного движения человечества в духовно преображённый всеобщим страданием и жертвенной кровью обновлённый мир…» В поэме Андрея Белого «второе пришествие уже происходит», — «в громе апокалиптических событий истории», «в тишине сердец, откуда появляется Христос» и где «Он, наконец, воскрес!».
Обращаясь к перипетиям «страшных лет России», некоторые поэты использовали условно-мифологический шифр. Загадочны, а порой тяжелодумны стихотворения Осипа Мандельштама 1917–1918 годов («Кассандре», «Сумерки свободы», «На страшной высоте блуждающий огонь!» и др.). Пророческим пафосом и библейской образностью проникнуты произведения Николая Клюева и Сергея Есенина. Николай Гумилёв стремился отгородиться от революционной действительности и не «пускать» её в свои стихи.
Редко встречаются страшные приметы истории и в творчестве Б. Пастернака этого периода. В цикле стихотворений, озаглавленном «Болезнь» (1918–1919), упоминается «шум машин в подвалах трибунала». Больной «видит сон: пришли и подняли. Он вскакивает: „Не его ль?…“». Нет, пока пронесло… Но в целом эти страхи уходят в подтекст, создавая подспудное напряжение внешне «невинных» стихов конца 1910-х годов.
Крик души вырывается у далёкого от политики и всецело, казалось бы, принимающего новый мир Велимира Хлебникова. Он не подстраивался под события, не ловил на лету ветер господствующей идеологии. Поэта всерьёз увлекла мечта о преображении мира. «Лобачевский слова», революционер стиха, Хлебников вроде бы попал в родственную ему внутренне эпоху, где всё свершается, «Чтобы зажечь костёр почина / Земного быта перемен». Но… навсегда врезался ему в память «У смерти утёсов / Прибой человечества…». Обращаясь к современникам, поэт говорит:
Вы очарованы в железный круг —
Метать чугунную икру.
Ход до смерти — суровый нерест
Упорных смерти женихов,
Войны упорных осетров,
Прибою поперёк ветров,
То впереди толпы пехот —
Колчак, Корнилов и Каледин…
(«Синие оковы», 1922)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Книги похожие на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Отзывы читателей о книге "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог", комментарии и мнения людей о произведении.