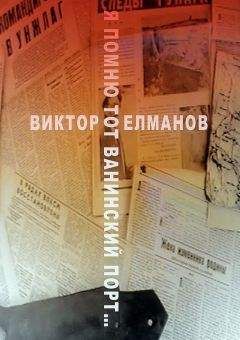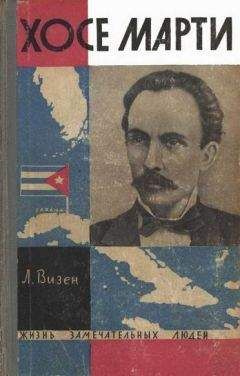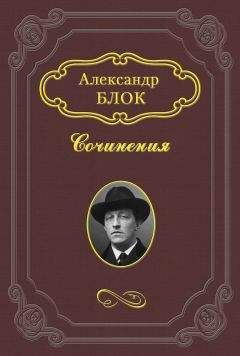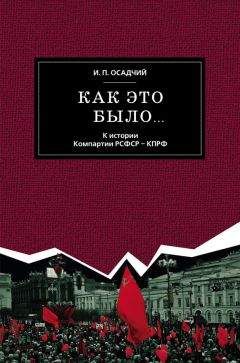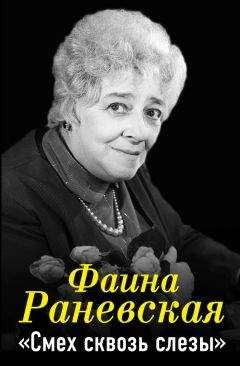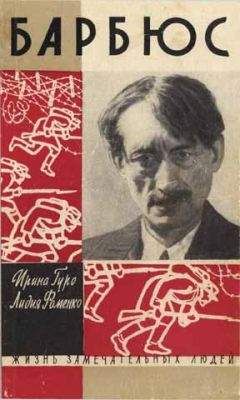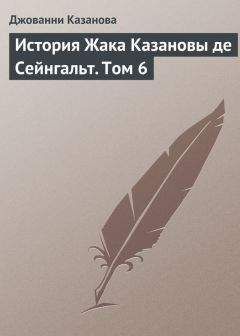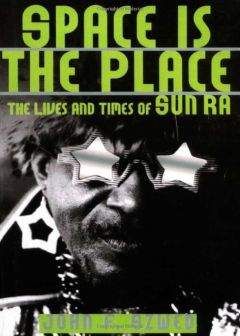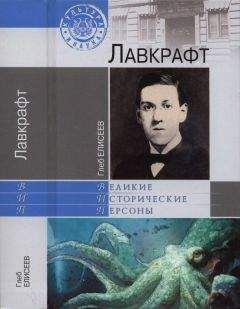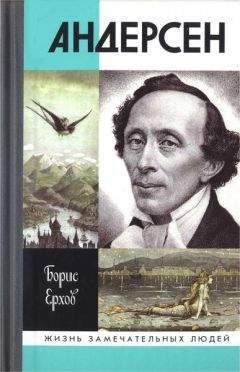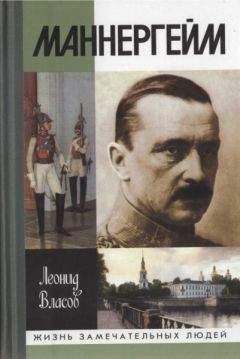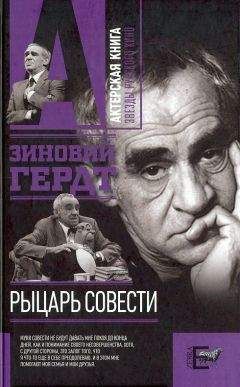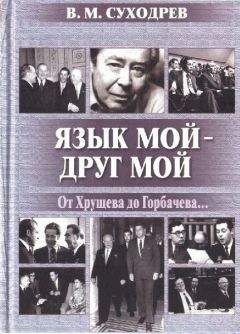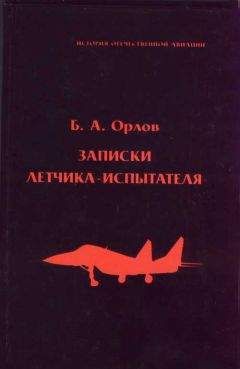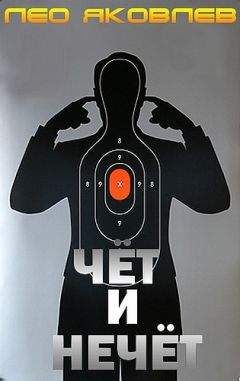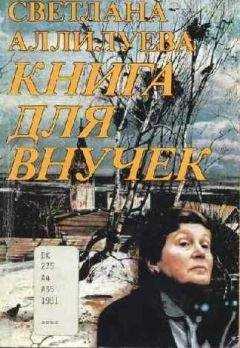Ирина Бразуль - Демьян Бедный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Демьян Бедный"
Описание и краткое содержание "Демьян Бедный" читать бесплатно онлайн.
«Наверное, я удивлю вас, если скажу, что предпочитаю Демьяна Бедного большинству советских поэтов. Он не только историческая фигура революции в ее драматические периоды, эпоху фронтов и военного коммунизма, он для меня Ганс Сакс нашего народного движения. Он без остатка растворяется в естественности своего призвания, чего нельзя сказать, например, о Маяковском, для которого это было только точкой приложения части его сил. На такие явления, как Демьян Бедный, нужно смотреть не под углом зрения эстетической техники, а под углом истории. Мне совершенно безразличны отдельные слагаемые цельной формы, если только эта последняя первична и истинна, если между автором и выражением ее не затесываются промежуточные звенья подражательства, ложной необычности, дурного вкуса, то есть вкуса посредственности, так, как я ее понимаю. Мне глубоко безразлично, чем движется страсть, являющаяся источником крупного участия в жизни, лишь бы это участие было налицо…»
Борис Пастернак
Иной вечер, напротив, Ефим Алексеевич оставался в кабинете и даже не присоединялся к общему чаю. Разбирал обширную корреспонденцию, шедшую с Урала и из Женевы, из Лондона и Оренбурга. Своим аккуратным, разборчивым почерком переписывал наиболее удачные стихи для представления в редакцию.
Иной вечер шел спор о таких стихах. А если Петр Филиппович был почему-либо молчалив либо углублен в срочную работу, гостю разрешалось порыться в библиотеке.
Листая некоторые книги, Придворов, бывало, волновался, хотя не находил здесь каких-нибудь особенных изданий. Вот томик Чехова. Обыкновенный. Но дарственная: «От искреннего почитателя и друга Вашей книги» — так было написано чеховской рукой.
Значит, он оценил Петра Филипповича? И, судя по дате, оценил одним из первых.
Встречались здесь и другие, более горячие посвящения. Ефим Алексеевич никогда не задавал вопросов, связанных с признанием «В мире отверженных». Он знал, что Петр Филиппович не любит говорить о достоинствах своей работы. И уважал его и за это свойство.
Однажды после очередных разговоров о влиянии на человека семьи, о формировании идеалов, поисках целей жизни Петр Филиппович извлек из дальнего ящика бюро какой-то довольно толстый томик.
— Вот, если вам интересно, полистайте. Ведь и до нас люди думали, искали…
По тому, как был этот томик вручен, молодой друг Мельшина понял, что Петр Филиппович дорожит им. А по тому, как он запрятан, — что не каждому показывает; да еще сделал совершенно неслыханное предупреждение: «Пожалуйста, осторожнее с папиросами. Не обожгите страницы…»
Курил Придворов, правда, немало, но с чрезвычайной аккуратностью выстукивал мундштук в предоставленное ему блюдечко и никогда-никогда не ронял пепла, а тем более огня.
Он молча погасил папиросу. Петр Филиппович вышел. Открыв томик, Ефим Алексеевич увидел, что перед ним «Наставление детям Василию и Петру от их отца, Филиппа Тарасовича Якубовича». Дата — 1875.
Около двухсот листов плотной бумаги были заполнены каллиграфическим почерком. Текст делился на главы.
Это были не нотации, не плоские родительские проповеди, в которых старшие так часто учат младших тому, чего не делают сами. Все было сказано с суровостью, но не к детям — к порокам. Иногда и шутливо: глава о праздности и лености начиналась словами: «Эти две сестрицы… всегда сопутствуют друг другу».
Было интересно и то, что старый дворянин, родословная которого, как он сам замечал, восходила к 1600 году, писал об отношении к начальству и подчиненным, «а наипаче — к правительству страны». Отец вовсе не располагал детей к покорному почитанию власти: «Самодержавец» — в царском титуле слово, каким не именуется и не именовался никогда ни один государь христианский; точный смысл его — самовластие, или, другими словами: деспотизм…» — толковал он, конечно, не более как повторяя Радищева. Но в семейном, интимном документе это звучало по-своему значительно.
Дальше — больше, Единственное, что портило чтение рукописи, была невозможность закурить. Как знать? Могло статься, что Петр Филиппович дорожил даже запахом этих старых листов, не хотел, чтобы они пропахли дымом. И Ефим Алексеевич грыз пустой мундштук.
В этот вечер Мельшин оставил его в одиночестве надолго. Потом оказалось, что он даже уходил из дому. А вернувшись, застал гостя за последними страницами рукописи. Встретившись снова уже в столовой, они не заговорили о «Наставлении»; каким-то образом они всегда чувствовали настроение друг друга, и это тоже, вероятно, их сближало.
Теперь вместо задушевного разговора, который, казалось, мог бы последовать после ознакомления с семейным документом, Ефим Алексеевич занялся вовсе хозяйственными делами. Настрогал лучины для самовара, вызвался наколоть дров: охота размяться! Давно не махивал топориком, не работал во дворе! И только перед отъездом, пожимая сухую, тонкую руку Петра Филипповича, сказал: «Спасибо…» А к разговору о «Наставлении», о личности Филиппа Тарасовича они вернулись много позднее, по какой-то ассоциации, и опять-таки по молчаливому обоюдному согласию.
Поездки в Удельную приносили не только радость общения с семьей Мельшина. Не один Придворов любил этот дом, не один он сюда ездил в дождь и в мороз. Здесь он встречал тех, при чьем «ближайшем участии», как это было сказано на титульных листах «Русского богатства», издавался журнал. Тут Придворов увидел Николая Федоровича Анненского — близкого друга Короленко; того Анненского, из-за статей которого чуть не закрыли журнал… Знакомясь с этим старым человеком, лицо которого выражало бесконечную доброту и благородство, Ефим Алексеевич понял, что видит его не впервые. Цепкая зрительная память, кажется, навеки сохранила перед ним всю картину.
Было 9 января. Оглушенный всем происходящим, он забежал в Публичную библиотеку. Не может быть, чтобы и там стреляли…
Едва Придворов попал в вестибюль, как увидел людей, ведущих, под руки старика, лицо которого потрясало выражением муки. Придворов никого не заметил, кроме плачущего старика. И только много позже, когда об Анненском написал Горький, стало ясно, что в тот день безвестный студент стоял рядом с писателем, которого уже знал по портретам. Но не заметил…
«Я вот как сейчас вижу перед собой его хорошее лицо, — писал после Горький. — Рыдал он, кажется, беззвучно, но показалось мне, что он оглушительно кричит». «…Я много видел слез отчаяния и скорби, но мне думается, что слезы Николая Федоровича Анненского в день 9 января — самые страшные и сжигающие душу человеческие слезы…»
В доме у Петра Филипповича Придворов впервые пожал руку Анненскому. Здесь же Ефим Алексеевич познакомился и с Короленко, который приезжал по-дружески, иногда прихватив старшую дочь Соню.
Но даже и те замечательные люди, которых Придворов здесь не встречал, становились как бы ближе: запросто, как о своих, говорили здесь о Вере Фигнер, «шлиссельбуржце» Николае Морозове… И по этим разговорам он мог живо представить себе, каковы они в привычках, обращении, достоинствах и недостатках.
Одно огорчало Придворова: как только речь заходила о Горьком, лицо Петра Филипповича суровело: осуждал за близость к большевикам. Когда-то они «столкнулись лбами» на дне рождения «патриарха народников» Михайловского. Поспорили насчет «Искры», Мельшин прямо заявил, что эту газету он «рвет и жжет, рвет и жжет… А вон Горький… — и он с досадой махал рукой, — поддался!». Придворову же разобраться, а тем более войти по этому поводу в спор было никак не возможно. Только инстинктом чуял, что его большой друг слишком горячится и где-то не прав. Ну как же? На Горького — и рукой махнуть? Нет, если ему и мечталось с кем-то из писателей повстречаться, то именно с ним!
Другие приезжавшие сюда люди не всегда интересовали его. Правда, связь с ними была полезна: благодаря соиздателям «Русского богатства» — Горнфельду, Пешехонову — он начал бывать в Литературном обществе; там, в свою очередь, познакомился с другими деятелями литературы.
Еще шире стал круг знакомых лиц, когда Якубовичи, наконец, оставили Удельную. Переехав в город, семья поселилась на Выборгской стороне. Придворов почувствовал облегчение. Пусть недалеко было до вокзала, да и от станции — не больше десяти минут ходу, но сколько высвободилось времени! А оно было ох как нужно! Из-за поездок он запустил учеников. И вот результат: репетиторские дела, пошедшие было отлично, пошатнулись. Сохранилась записка с подсчетом «убытков»:
«С шестого прекратили занятия Кадзевичи (15 р.), Селицкий (10), Штендер (10), Чеботарев (7), Дубинин (15), Генделевич (10). Шесть человек сразу = 72 рубля. Что будет дальше, любопытно».
А ведь в один только Университет надо было внести за право учения двадцать пять рублей. И наконец, с некоторого времени деньги стали особенно нужны: предстояла женитьба.
Еще в прошлом году у Придворова появилась ученица — Вера Косинская. Она пришла по объявлению в газете: «Студент Спб. Императорского университета готовит за недорогую плату по всем предметам». Девушка хотела поступить на акушерские курсы.
Вера сразу понравилась своему репетитору не только внешне. Он ценил в людях энергичность, бойкость характера — вялости не любил ни в ком. Живая, веселая, Верочка стала бывать у репетитора чаще, дольше, чем требовали занятия. Отношения становились все более близкими, а намерения — серьезными.
Одно мешало — вечные поездки в Удельную. Приходилось объяснять, почему он всегда уезжает туда без нее:
— Понимаешь — это не то, что называется «бывать в гостях», — я приеду, а Дима наказан, стоит в углу: любит кататься на крыле отцовского бюро, а Петр Филиппович сердится. Ну, я сяду разбирать стихи, письма. Только Дима повернется украдкой — сострою ему этакую жа-алостливую физиономию. Мальчишке веселее (подумаешь, грех!). Другой раз мы с ним рисуем, пишем стихи, а то даже играем во дворе в лапту, «чижа», бабки или бегаем наперегонки. Бывает, что отец с матерью заняты своими делами или уходят. Я ведь их не связываю… Никогда не знаю, как и с кем проведу время, кого у них застану.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Демьян Бедный"
Книги похожие на "Демьян Бедный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Бразуль - Демьян Бедный"
Отзывы читателей о книге "Демьян Бедный", комментарии и мнения людей о произведении.