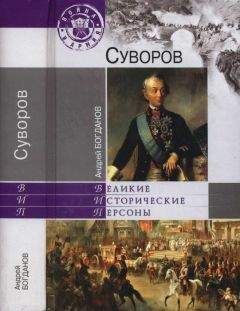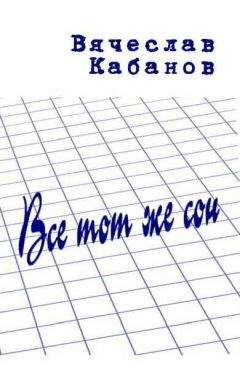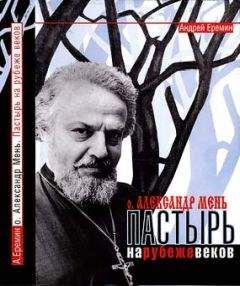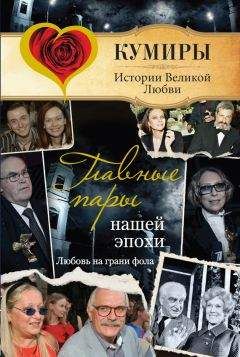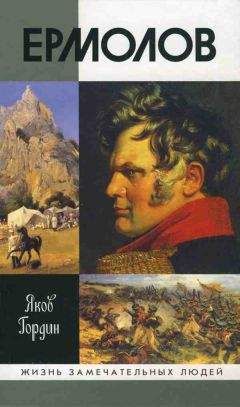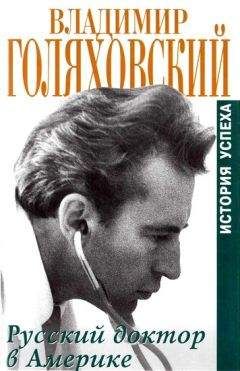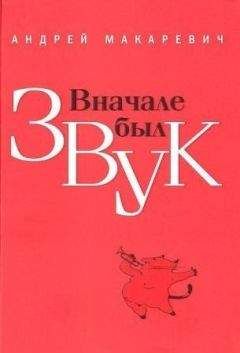Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Описание и краткое содержание "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать бесплатно онлайн.
Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.
Усердный творческий труд Владимира Андреевича особенно примечателен при том, что ему приходилось выполнять почти всю домашнюю работу. Мария Владимировна была больна и слаба, очень угнетена опасностью, угрожающей ее сыновьям, и мало что могла делать. После она так и не оправилась от потрясения гибелью обоих своих сыновей. И Владимира Андреевича постоянно можно было застать за совсем иным, отнюдь не высоко — творческим занятием. В моих хождениях в Старый город я каждый раз обязательно заходил к Фаворскому и видел всю его повседневную жизнь. Скажем, выхожу я во двор Тилля — Кари, взглядываю направо и вижу: Владимир Андреевич сидит на пороге своей худжры и читает книгу, держа ее в левой руке, а правой мешает кипящую на мангале кашу. У профессоров института (кроме партийно — номенклатурной элиты, разумеется) питание было, как и у студентов, очень скудное. И чтобы затопить мангал — самодельную печку, сделанную из ведра, обложенного внутри глиной и с пробитым внизу отверстием для подкладывания топлива, — нужно было тоже немало потрудиться, нарубив и нащепав дров, чем Владимир Андреевич и занимался методично и точно, как и всеми прочими делами.
Маша постоянно убегала в Старый город, коротко сообщая мне: «Я у Фаворских». Она часто жила у них целыми неделями. Мы считали, что там она как у Христа за пазухой. Только вернувшись в Москву, Маша рассказала, что это было не совсем так. Обе Маши, моя и Фаворская, потихоньку от Владимира Андреевича иногда впадали в безудержное легкомыслие — играли вместе с другими ребятами в казаки — разбойники на верхушке арки Шир — Дора! То есть на длинной выщербленной каменной полосе, ничем не огороженной и шириной не более трех метров! Из все игр, изобретенных человечеством, эти казаки — разбойники меньше всего подходили для данного случая. А еще к тому же, набегавшись (ловя друг друга), ребята усаживались отдохнуть на край площадки, свесив ноги над аркой ШирДора на высоте не ниже двенадцатиэтажного дома. Присущая Маше способность ничего не бояться, быть может, и сложилась в этом безумном развлечении на верхушке Шир-Дора. И все‑таки, находясь «у Фаворских», Маша получала самое высокое гуманистическое воспитание, какое только можно было пожелать.
Моим добрым другом был и Сергей Васильевич Герасимов. Я познакомился с ним в 1932 году в Ленинграде, где он был, как и я, устроителем юбилейной выставки «Художники РСФСР за 15 лет». Взаимная симпатия осталась — в 1936 году я помогал ему устраивать его персональную выставку в Музее изобразительных искусств, а он в свой черед помогал мне устраивать придуманную мною и Марией Зосимовной Холодовской выставку книжной иллюстрации за пять лет в том же году и в том же Белом зале музея, и одним из главных украшений этой выставки были два стенда с его замечательными цветными и черными иллюстрациями к поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Очень близкими наши отношения стали в последние годы жизни Сергея Васильевича — 1957–1964–м. В Самарканде он жил в хорошем доме в Новом городе и не раз приглашал меня посмотреть только что написанные живописные работы. Среди них были прекрасные: маленький квадратный пейзаж «Двор Шир — Дора», подлинная жемчужина всей его пейзажной живописи, или ярко выразительный портрет художника Штильмана — очень милого и привлекательного профессора Киевского художественного института. Когда приехал И. Э. Грабарь, Сергей Васильевич пригласил его и меня посмотреть оконченную им большую картину «Мать партизана» — мать — старуха была изображена на ней худой и изможденной, бедно одетой — как на сохранившемся подготовительном этюде, что находится в Русском музее, а немец — фашист грубым, толстым, наглым. Картина произвела на нас сильное впечатление — большие картины очень редко получались у Сергея Васильевича удачными. В Москве ему пришлось переделать, почти заново переписать картину по требованию какого‑то выставочного начальства, не желавшего оплачивать картину в ее первозданном виде: старуха была омоложена, нарядно одета, немец сделан маленьким, плюгавым. Когда в Москве Грабарь пришел посмотреть эту вконец испорченную картину, он только воскликнул: «Какое кощунство!» — и убежал. Я тогда не знал, что главной работой Сергея Васильевича, сделанной в Самарканде, была обширная серия черных акварелей «Страницы жизни» — воспоминания о его жизни в Можайске в детстве. Эту серию он никому не показывал и о ней не говорил, и лишь долго спустя я увидел эти три скромные конторские книги с плохой бумагой, отобрал несколько десятков лучших рисунков и издал со своей большой статьей о Сергее Васильевиче в Самарканде. Когда эта папка очень большого формата с отдельными репродукциями вышла в свет, мне позвонил Денисов, сказавший: «Вы напрасно не посоветовались со мной, прежде чем печатать эту статью». Я спросил: «А в чем же дело?» — «А вот ваши рассказы о жизни в Самарканде вызвали возмущение у Кугача и Нечитайло». — «А какое мне до них дело?» — «Но ваши рассказы не соответствуют официальным документам». — «Но я сам был в Самарканде и прекрасно знаю, как стряпались эти официальные документы — грош им цена». — И повесил трубку. Всюду и везде партийное начальство стремилось скрыть неблаголепную правду под покровом лживого вымысла.
В Самарканде я очень подружился с Николаем Павловичем Ульяновым. Я был знаком с ним давно, но особой близости тогда не было. Как вышло в Самарканде совсем иначе — не помню. Я уже рассказывал об этом — Ульянов приехал осенью 1942 года из Тбилиси вместе с Грабарем, и, так как не был связан с институтом, ему предоставили никуда не годную полуразрушенную худжру в Шир — Доре. Он привез с собой умирающую жену, художницу Глаголеву, и ее пришлось положить на голый каменный пол. Она скоро умерла, и Ульянов был в очень угнетенном состоянии. Я старался его ободрить и утешить, насколько это было возможно, и с этого началась очень сердечная дружба с этим замечательным художником. Приходя на Регистан, я стал каждый раз заходить к Ульянову, и ему это, по — видимому, было нужно и важно. Он стал усердно работать, и часто можно было видеть, как он сидит на самом солнцепеке посреди пыльной регистанской площади на маленькой табуретке перед мольбертом и пишет регистанскую архитектуру, а позади него полукругом сидит на земле большая компания мальчишек и собак, внимательно и тихо наблюдающих, как на его холсте загораются сияющие краски Шир — Дора. Иногда ему надоедало их присутствие, и он махал рукой, чтобы они ушли — они почтительно отодвигались немного подальше и не уходили.
Приехавшая с Ульяновым его помощница по театральному оформлению Вера Евгеньевна, ставшая после смерти Глаголевой второй женой Николая Павловича, в своих воспоминаниях о Самарканде написала: «Иногда заходил Андрей Дмитриевич Чегодаев», — написала ошибочно, потому что я заходил не «иногда», а каждый день, но она в Самарканде где‑то работала и не могла меня видеть, так как я приходил в утренние часы, когда она была на работе.
Чтобы успокоить Ульянова по поводу его жилья, для житья негодного, Грабарь обещал предоставить ему благоустроенную деревянную «каюту», стоявшую посреди Шир — Дора, в которой обитал Моор, собиравшийся в январе уехать в Москву. Моор действительно уехал в Москву, но когда Ульянов пошел к этой «каюте», то нашел ее на замке. Он пошел к Горощенко узнать, в чем дело, и Горощенко величественно ответил ему, что эта «каюта» подобает ему, Горощенко, как руководителю института. Так, Ульянов до конца пребывания в Самарканде — до самого конца 1943 года — остался жить в своей полуразрушенной худжре.
Сложившаяся близкая дружба с Ульяновым только еще больше укрепилась в Москве. Раз я смог очень сильно и, надо сказать, эффективно ему помочь. Он написал большую картину «Константин Сергеевич Станиславский за работой» — прекрасный портрет человека, которого знал очень близко и не раз для него работал (декорации к «Дням Турбиных», костюмы к «Мольеру»), Он дал этот портрет на очередную всесоюзную выставку, в Третьяковскую галерею. Там почему‑то к нему отнеслись недружелюбно и так и не нашли для него места. Я, работая тогда в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и ведая там всей экспозицией и выставками, должен был устраивать каждый год филиал всесоюзной выставки; мне везли из Третьяковки все новые и новые картины, и их надо было включать в мою развеску, постоянно переделывая уже развешанные стены. Я много раз на день звонил в галерею Галушкиной, чего мне еще ждать, и каждый раз спрашивал: «Картину Ульянова устроили?» — и получал отрицательный ответ. Наконец, привезли ко мне и «Станиславского», я нашел для него самое удобное и выигрышное место. Накануне вернисажа приезжает Ворошилов, который считал себя знатоком искусства, с ним маршалы, генералы и президент новоявленной Академии художеств Александр Герасимов. Показываю выставку я, как хозяин и устроитель, подвожу к тем картинам, какие считаю нужным. Подвожу к картине Ульянова и говорю: «Это лучший портрет на этой выставке». Ворошилов был знаком со Станиславским, он в восхищении, маршалы поддакивают, и сам Александр Герасимов цедит: «Это лучший ученик Серова». Пошли дальше, а через час ко мне присылают из Кремля за «Станиславским» Ульянова — показать Сталину. Еще через час привезли обратно. Ульянов получил Сталинскую премию и тут же был избран членом — корреспондентом Академии художеств. Я, что называется, «утер нос» Третьяковской галерее.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Книги похожие на "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал"
Отзывы читателей о книге "Моя жизнь и люди, которых я знал", комментарии и мнения людей о произведении.