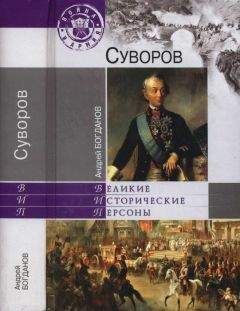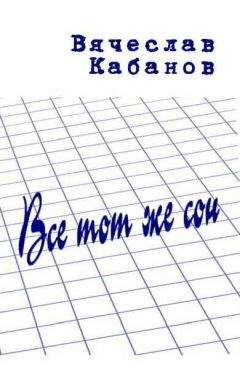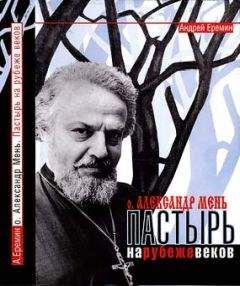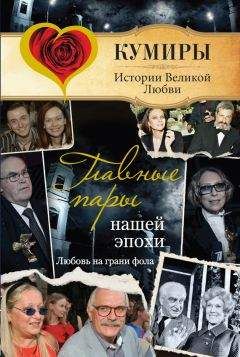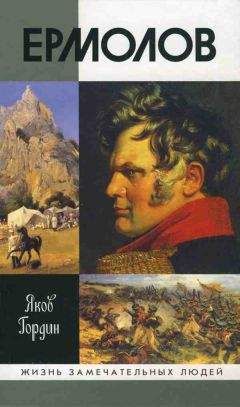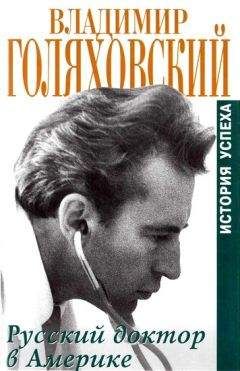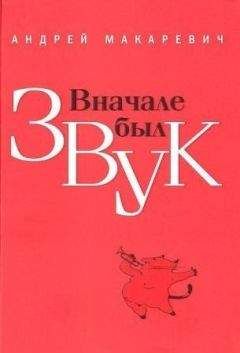Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Описание и краткое содержание "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать бесплатно онлайн.
Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.
В другой раз он, скажем, предлагал: «Хотите послушать, как Алексей Толстой, пьяный, приезжает в Дом писателей, является на заседание, которое ведет Маршак, и уговаривает его бросить заниматься глупостями и ехать с ним веселиться?» Мы, конечно, отвечали: «Хотим!» — и Андроников садился на диван, закрывал лицо рукой и потом медленно опускал руку. И на диване сидел Алексей Толстой! Андроников точно повторял все его интонации, все ужимки, выражения лица, жесты рук — я бывал у Алексея Толстого дома и был совершенно потрясен силой андрониковского перевоплощения. И другие его представления были не хуже. После войны я встречался с ним постоянно, ездил к нему с женой и дочерью в Переделкино, помогал его дочери Манане, так трагически кончившей свою жизнь, когда ее затравили недруги.
Самой интересной и самой важной работой для редакции старшего возраста было мое участие в большой коллективной работе для редакции старшего возраста, в которой я выступал в качестве не художественного редактора, а редактора литературного. Мне эту работу предложил Самуил Яковлевич Маршак еще в первый год моего пребывания в Детиздате. Во время наших постоянных встреч он расспросил меня о всей моей жизни, о моих родных, о научной работе. Узнав, что я особенно усердно и пристально занимаюсь историей французского и английского искусства последних трех веков, он сказал мне, что намерен создать для ребят старшего возраста обширную (не в одном томе) антологию английской поэзии в лучших русских переводах, что он уже создал редколлегию этой антологии из себя самого, Генриха Эйхлера и Кирилла Андреева, а в качестве секретаря пригласил сотрудницу Детиздата Живову, что эта редколлегия в ближайшее время приступит к своей большой работе, и предложил мне для этой будущей антологии подобрать параллельный ряд произведений английского искусства. Я, конечно, с радостью согласился и стал ездить на заседания редколлегии раз в неделю по пятницам к Маршаку, на Земляной Вал. Но когда Маршак убедился, что я хорошо знаю английскую литературу в подлиннике, он включил меня в литературную редколлегию этой антологии. Мы проделали огромную работу: просмотрели (вернее, прослушали) все существующие переводы английских (и американских) поэтов на русский язык и отобрали достойные почтения и уважения, затем прослушали (в чтении Маршака на чистейшем английском литературном языке) всех поэтов — от Чосера до наших дней, отобрали те стихи, которые нужно было впервые перевести на русский язык, заказали эти переводы Пастернаку, Цветаевой, Лозинскому и другим, а когда получали эти переводы, то обсуждали их и решали их судьбу. Маршак сам увлеченно работал над переводом сонетов Шекспира и лирики Роберта Бернса.
Ничего более увлекательного, чем эти заседания, нельзя было себе представить! Мы составили примерный план антологии — длинный — предлинный список. И каждое заседание начиналось одними и теми же словами Маршака: «Ну, давайте пересмотрим наш список». Этот список постепенно «материализовался», но работы все еще оставалось чрезвычайно много. Мы проработали пять лет до начала войны и так и не окончили свою работу. Она в важнейшей своей части не пропала — все новые переводы были изданы — Маршак напечатал (и не один раз) свой перевод сонетов Шекспира (в антологию предполагалось включить лишь несколько) и перевод лирики Бернса; Пастернак издал том своих переводов, были изданы и переводы Марины Цветаевой — народные песни о Робине Гуде и другие. Но за время нашей работы происходило много интересного и даже забавного. Так, например, мы прослушали (в маршаковском чтении) все самые знаменитые стихотворения Вордсворта и решили перевести три из них («К Люси», «Агасфер» и еще третье, не помню как называется), решили также заказать эти переводы Лозинскому. Приходим через неделю, Маршак встречает нас очень смущенный: «Я не удержался и сам перевел эти три стихотворения Вордсворта».
Незадолго до войны ему пришло в голову: «А почему не дать несколько фрагментов из пьес Шекспира?» И он, наметив пять наиболее ярких фрагментов из «Гамлета», засадил меня за работу, велев взять и посмотреть эти места в четырех наиболее известных переводах и выбрать лучшие. Я прочитал эти четыре перевода: старый, середины прошлого века Кронеберга; перевод Лозинского, сделанный для изданного «Academia» в начале 30–х годов собрания сочинений Шекспира; вышедший в середине 30–х годов перевод Анны Радловой и еще не изданный перевод Пастернака. Мои суждения об этих переводах были весьма разнообразны. Перевод Кронеберга оказался очень приблизительным, но очень эффектным, словно написанным для провинциальных актеров, с пышными «выходами к рампе», со всякими отсебятинами («О женщины, ничтожество вам имя» — это Кронеберг, а не Шекспир). Перевод Лозинского оказался глубоко профессиональным и точным, но с некоторой странностью — и Гамлет, и король, и солдаты, и могильщики говорят совершенно одинаковым приподнято — торжественным языком, нивелирующим разницу между теми, кто говорит. Перевод Анны Радловой поверг меня в изумление — эта толстая, очень важная и чванная дама с черной бархаткой на шее наполнила свой перевод грубейшей извозчичьей бранью, которой у Шекспира нет! Я ведь сличал все переводы с английским оригиналом. Перевод Пастернака, который я читал по рукописи, данной великим поэтом, совершенно затмил все прочие и поразил меня своим совершенством. Разницу с лучшим из других переводов — Лозинского — можно ощутить при сравнении самых ярких фраз. Например, у Лозинского в первом акте Марцелл говорит:
Не ладно что‑то в датском королевстве —
эпически спокойно, даже торжественно. А у Пастернака эти же мысли Марцелл выражает со страстью и злостью:
Какая‑то в державе датской гниль.
Я все свои предпочтения отдал Пастернаку, и Маршак и другие члены редколлегии со мною согласились. Перевод Пастернака был напечатан почти накануне войны, с прекрасными гравюрами Фаворского.
Только с глубокой благодарностью я могу вспомнить о некоторых людях, связанных с Детиздатом. Особенно достоин глубочайшего уважения заведовавший всей художественной редакцией Виктор Васильевич Пахомов, сущий ангел по своему характеру, человек редкой деликатности и доброжелательности. Я относился к нему с полной преданностью, слушался малейшего его замечания или совета. Я обязан ему тем, что чувствовал себя в Детиздате как дома и любая работа казалась легкой.
Я благодарен постоянному техническому редактору делавшихся мною книг — Зине Тышкевич, молодой милой и красивой девушке, отличному мастеру своего дела.
Я благодарен Эсфири Михайловне Эмден, прелестному, высококультурному и тонкому человеку, заведовавшей дошкольной редакцией последние полтора года перед войной.
Я с глубокой признательностью и нежностью вспоминаю своего близкого и доброго друга Генриха Эйхлера. Наряду с Виктором Васильевичем Пахомовым он в наибольшей степени содействовал тому, чтобы работать в Детиздате мне было легко, спокойно и увлекательно. Неслучайно, самые мои любимые книги из тех, что мне пришлось редактировать в Детиздате — «Акула, гиена и волк» Маршака и антология «Русские поэты», делались мною вместе с Эйхлером. Он был широко образованным человеком, и наши беседы были всегда содержательны и интересны. Он был очень добрым человеком. Я очень жалею о его печальной судьбе: он был латыш, но когда началась война, его по ошибке сочли немцем и, не пожелав слушать его доводы, что он вовсе не немец, сослали в Среднюю Азию. И там он вскоре умер, не знаю от чего, но, по всей вероятности, могу предположить, что он умер от одиночества, тоски и обиды, а может быть, и истощения. Я посвящаю его памяти этот фрагмент моих воспоминаний.
В Детиздате всегда было много народу, приходившего по своим делам или без дела. Работая в нем, я перезнакомился с большим числом писателей, детских и недетских. Среди них были очень яркие и привлекательные люди — как Аркадий Гайдар или упоминавшийся мною Михаил Светлов, были занятые собой, важные, не нисходившие до простых смертных — как Алексей Толстой, были очень неприятные — как Безыменский или, особенно, Пришвин. Познакомившись с последним, я понял, почему мой тесть Михаил Осипович Гершензон прогнал Пришвина из своего дома, когда тот в начале двадцатых годов повадился к нему ходить.
По правде сказать, Детиздат очень сильно мешал моей научной работе. За пять лет пребывания в нем я напечатал совсем мало статей и ни одной книги. Об этом очень беспокоился мой учитель и наставник Виктор Никитич Лазарев. 31 декабря 1941 года, когда мы с женой, как обычно, пришли к Лазареву встречать Новый год, пришедший туда профессор Михаил Владимирович Алпатов, с которым я тогда дружил, принес сочиненные им на всех присутствовавших эпиграммы (я уже приводил его эпиграмму на мою жену Наташу), и на меня там была довольно злая, но, по- видимому, справедливая эпиграмма:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Книги похожие на "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал"
Отзывы читателей о книге "Моя жизнь и люди, которых я знал", комментарии и мнения людей о произведении.