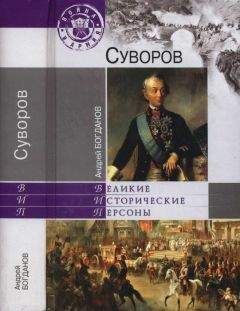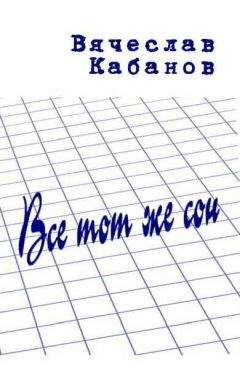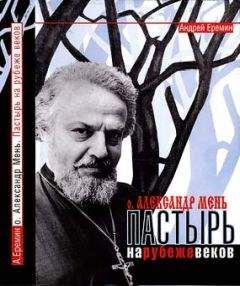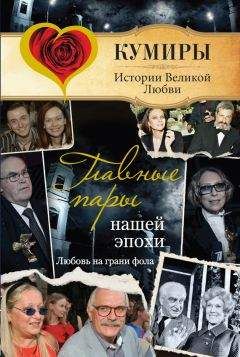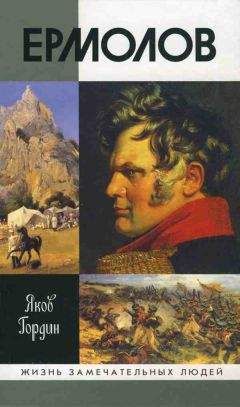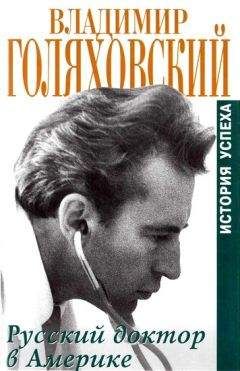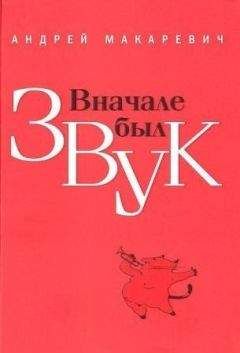Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Описание и краткое содержание "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать бесплатно онлайн.
Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.
Ты видишь, я неисправимо всюду отыскиваю прекрасных людей — но ведь я не пишу тебе о всякой дряни, которой я тоже вижу достаточно. Фаворский, Штеренберг, Гончаров, Купреянов, Лебедев, Шевченко, Лабас, Истомин, Герасимов — все разные, и другие и разные Пунин и Нерадовский, и Тырса — но все мною или давно, или теперь «проверены» и несомненны — хоть они мне совсем по- разному ценны как художники. (Я могу обойтись вполне без Герасимова и Нерадовского. И Тырсы.) А кроме того — я очень люблю Жанну, и очень много есть милых и приятных людей в Русском музее. Это все я пишу потому, что так много было дерганья и неприятностей, и такая усталость. Что мне самому понравилось — расскажу. Митя был очень доволен — и выставкой, и людьми (я познакомил его с Фаворским, с Гончаровым, Шевченко и показал ему всех, кого мог). На всяком вернисаже, даже на этом, интереснее посетители, а не экспонаты. Завтра и послезавтра я кончу все дела по выставке (каталог, акты и др.) и уеду 16–го с Жанной и Купреяновым. Раньше не могу — ничего не могу сделать, потому что сегодня все еще возился с этикетками и пр. На Эрмитаже поставил крест на этот приезд. Хотел бы вырваться на минуту — посмотреть Домье, но боюсь, что и этого не выйдет.
Наташушка милая, мне так хочется скорее вернуться, что я сделаю тут только то, без чего не могу уехать, вроде актов и каталога, а остальное мне все равно. Наташенька милая, я все дни каждую минуту, что не думаю о гвоздях, этикетках и т. д. все время думаю о твоих неприятностях, о которых ты не пишешь. Наташенька милая, как я хотел бы прижать тебя крепко и поцеловать, чтобы тебе хорошо было и не было б дела до всех неприятностей на свете. Наташенька милая, милая, маленькая моя Наташушка! Я так соскучился и истосковался без тебя и Машеньки. Мне так драгоценны все Машурушкины «фразы», такие милые, такие любимые тоже. И «телефон», и «я на тряпочке сидю», и «мама, искни», и все, все. Игрушки я привезу непременно. Поцелуй Машеньку от меня и скажи, что я приеду через три дня — даже, когда письмо придет — на другой день.
Целую тебя и Машурушку тысячу миллиардов миллиардов раз и так хочу скорее увидеть. Наташенька, милая!
Поклон М. Б. А.
Посылку я получил — я уже писал в одном письме.
Я не помню, сколько дней пробыл еще в Ленинграде после того, как написал последнее свое письмо, что в эти дни делал, как и с кем уехал в Москву. Но я во всех подробностях запомнил свой последний визит к Анне Петровне Остроумовой — Лебедевой в обществе В. А. Фаворского, к которому и отправился, дописав письмо в тихой гостиной Дома ученых.
Я вышел на набережную Невы под вечереющим небом, перешел по мосту на Васильевский остров, дошел вдоль Невы до здания Двенадцати коллегий, прошел в самую глубину двора мимо бесконечно длинного бокового фасада этого прекрасного старого дома, и там, в особняке, принадлежащем Академии наук, нашел Владимира Андреевича, остановившегося в Ленинграде у одного из своих двух дядюшек, которые оба были академиками и оба химиками. Мы пошли пешком — вдоль Двенадцати коллегий, мимо дворца Меншикова, Кунсткамеры, Биржи, любуясь тем самым прекрасным старым Петербургом, который Остроумова — Лебедева с таким вдохновением запечатлела в своих гравюрах. Это было хорошее вступление к предстоящему визиту. Но когда мы около Биржи перешли на Петербургскую сторону, то где‑то у Кронверкского проспекта сразу попали в другой безобразный Петербург, враждебный первому, — Петербург Достоевского и Добужинского с грязными, обшарпанными домами, с мрачным дровяным складом, приткнувшимся у подножия высокого голого брандмауэра… От этого неуютного контраста мы поспешно погрузились в трамвай и поехали на Выборгскую сторону — на Нижегородскую улицу, ныне носящую имя академика Лебедева. В трамвае В. А. рассказал мне о слышанном им накануне споре художников на отнюдь не новую тему — что важнее в искусстве — «что» или «как»? — этот спор долго слушал В. В. Лебедев, и когда спросили его мнение, сказал: «В искусстве самое важное не «что» и не «как», а «кто», Владимиру Андреевичу — да и мне — очень понравилось это суждение.
Когда мы явились в остроумовский дом, то были очень приветливо встречены Анной Петровной. На этот раз дома был ее муж, высокий и довольно полный человек со светлыми глазами и светлыми вьющимися волосами и бородкой. Узнав, у кого остановился В. А., он сразу начал, немножко бестактно, расспрашивать его — очень длинно и очень нудно — об академических дядюшках Владимира Андреевича. В. А., неожиданно попавший в положение ничем еще себя не проявившего молодого человека, которого снисходительно расспрашивают о его знаменитых предках, отвечал смущенно и туманно, так как явно знал о делах и планах своих именитых родственников гораздо меньше, чем тот, кто его спрашивал. Во время этого долгого и скучного чаепития под столом при нашем малейшем движении, слышалось угрожающее глухое ворчание низким басом: две безносые китайские собачки, там сидевшие, терпеливо предупреждали нас, что вцепятся в наши ноги при любом покушении пошевелиться или переменить позу. Наконец, Анна Петровна увела нас в соседнюю комнату, увешенную чудесными акварелями Александра Бенуа и других ее товарищей по «Миру искусства», и стала показывать нам все свои гравюры. Я их знал все по превосходной коллекции своего музея, которую сам хранил и пополнял. В. А. знал тоже, но восхищаться этой удивительной вереницей совершенных творений можно было хоть в сотый раз в жизни. Анне Петровне было приятно восхищение Владимира Андреевича, которое было естественным, но к тому же очень уместным ответом на то восхищение его гравюрами, какое было выражено Остроумовой — Лебедевой, когда Владимир Андреевич показывал ей свою комнату на выставке в Русском музее. Могу считать, что мне выпала великая честь стать устроителем знакомства и встречи двух эпох истории русской гравюры — встречи, преисполненной глубокого взаимного уважения. В. А. спросил, целы ли доски гравюр А. П. Оказалось, что доски пропали, потерялись по дороге в Москву, куда их отправили в 1917 году. «Думали, что в Москве революции не будет», — сказала Анна Петровна и сама рассмеялась своим словам. Перед нашим прощанием она подарила нам по гравюре, по нашему выбору. Владимиру Андреевичу — «Голубую Неву», мне — «Фьезоле». Видимо, это посещение В. А. и этот подарок были важным событием для А. П. — она рассказала об этом в своей автобиографии. Для меня же это стало последним большим и ярким впечатлением столь насыщенных долгих дней путешествия в прекрасный и любимый мною город.
Из многочисленных ленинградских встреч и знакомств выделяются три самых важных и значительных — с Николаем Николаевичем Пуниным, с Казимиром Севериновичем Малевичем и Владимиром Васильевичем Лебедевым.
Пунин был тогда заместителем директора Русского музея, в котором расположилась выставка, фактически он был главным организатором необычайно сложной и трудной работы по ее устройству. Он входил в возглавляемый И. Э. Грабарем президиум экспозиционной комиссии, но решал все дела с размещением всех художественных группировок 1917–1932 годов и с претензиями и просьбами множества участвовавших в выставке художников не Грабарь, а Пунин. У него был вспыльчивый и яркий темперамент, и хотя мы не раз с ним ссорились («с шумом и криком», как написано в моих письмах) — я не мог устоять против неотразимого обаяния этого блестяще талантливого, причудливого и необычного человека и просто влюбился в него, не обращая никакого внимания на наши мимолетные размолвки. Он был главным организатором петербургского футуризма первых лет революции, под общим именем которого выступали очень разные ярко оригинальные и самобытные художники — Татлин, Малевич, Альтман, Кандинский, Матвеев, Анненков, Карев… Пунин ходил тогда даже с револьвером, такое было время. Полным энергии и изобретательности он остался навсегда, став профессором Ленинградского художественного института (называвшегося тогда Академией художеств) и предметом лютой злобы и ненависти мракобесной критики партийно — номенклатурного толка и подобного же искусства, был арестован по доносу дурного ленинградского художника Владимира Серова и не менее дурного московского искусствоведа Андрея Лебедева и умер в лагере за Полярным Кругом. О моей встрече с Пуниным в Самарканде в военные годы я расскажу в следующем фрагменте моих воспоминаний («Самарканд 1941–1944»), Малевичу меня представил A. B.Шевченко, приезжавший в Ленинград в самом начале устройства юбилейной выставки. Узнав, что я зять Михаила Осиповича Гершензона, Малевич отнесся ко мне чрезвычайно сердечно и дружески. Дело в том, что Малевич был очень дружен с М. О. Гершензоном, настолько, что у Михаила Осиповича до самой его смерти в кабинете висел «Черный квадрат» Малевича и М. О. говорил, что этот квадрат действует очень успокаивающим образом. Малевич писал письма Гершензону; эти письма (более сорока) я отдал ученику Малевича Николаю Михайловичу Суетину (после смерти которого они перешли к его жене А. А. Лепорской, а куда они ушли, когда она умерла, не знаю)[11]. Познакомившись со мною, он тут же предложил прочесть лично мне две лекции, которые назвал «О преимуществах беспредметности», и прочел. На выставке у него был персональный зал, в котором главное место посреди зала заняли его «архитектоны» — абстрактные отвлеченные геометрические модели многих архитектурных сооружений — эти «архитектоны» сыграли важную роль в сложении послевоенной архитектуры Миса ван дер Роэ, Нимейера, Ээро Сааринена и других замечательных архитекторов середины двадцатого века в Америке (как Северной, так и Южной). А на стенах Малевич развесил свою абстрактную живопись предреволюционных и первых революционных лет, хорошо мне знакомую по московскому Музею живописной культуры, виденную мною в начале двадцатых годов и очень мне понравившуюся.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Книги похожие на "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал"
Отзывы читателей о книге "Моя жизнь и люди, которых я знал", комментарии и мнения людей о произведении.