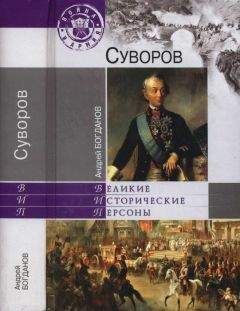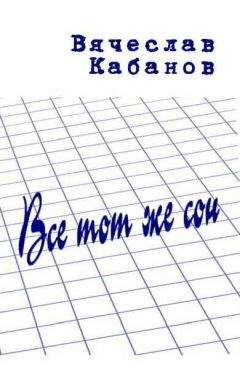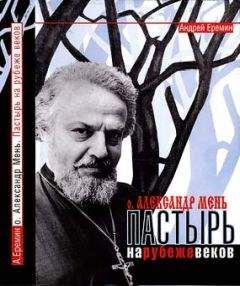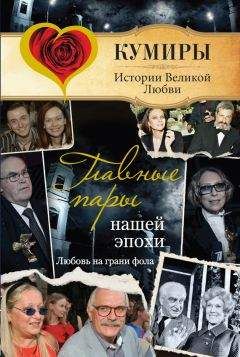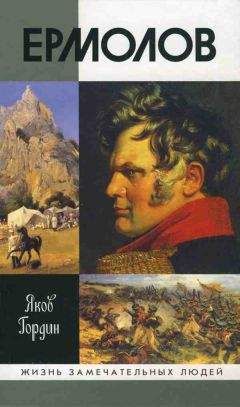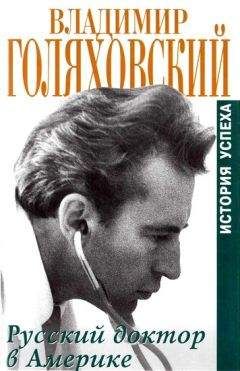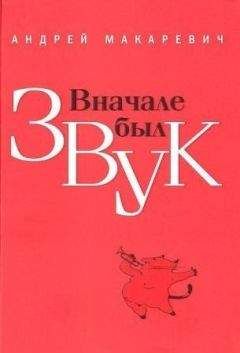Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Описание и краткое содержание "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать бесплатно онлайн.
Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.
Лебит вернулся в Москву через двадцать пять лет, в 1954 году, после бесконечных скитаний по лагерям, а потом в ссылке в Сибири и в Средней Азии. Его пригласили в КГБ, извинились, что произошла ошибка, и показали документы его «дела»: оказалось, что он в 1929 году был арестован по доносу тогдашнего секретаря комсомольской организации Германа Недошивина. С помощью В. Н. Лазарева и В. Ф. Левинсона — Лессинга мне удалось устроить, чтобы Лебита приняли на последний курс Отделения истории искусств Ленинградского университета — у него ведь не было законченного высшего образования. Окончив университет, он погрузился в упорную, всепоглощающую работу над избранной им научной темой. Но, видимо, лагеря и ссылка погубили в нем способность к научному анализу и обобщению: сколько он ни трудился, без конца переделывая и вновь начиная свои изыскания, он так и не сумел за всю свою оставшуюся долгую жизнь напечатать ни одной сколько‑нибудь значительной статьи.
Воображаемому лебитовскому «троцкизму» была грош цена. Давид рассказал мне, что когда он ехал в свой первый путь в лагерь, с ним вместе ехал крестьянин. Давид спросил его, за что его взяли, тот ответил: «Да за троцкезу какую‑то!» Давидовская «троцкеза» была нисколько не более определенной.
Я тут же прекратил собрания «научно — исследовательского кружка». Не знаю, куда «активные» комсомольцы перенесли свои столкновения и ссоры. Только адрес очередных доносов остался, очевидно, прежний. В скором времени судьба, подобная лебитовской, постигла Женю Кронмана — не помню, еще в пределах университета или после его окончания, но с тем же составом участников спектакля. Кронман появился на несколько дней в Москве в короткий либеральный период непосредственно за окончанием войны, но весь остаток своей жизни вынужден был провести в Нижнем Тагиле, работал сотрудником тагильского музея, почти вне всякой связи с наукой об искусстве.
В последний год (или, точнее, сезон) моего пребывания в Московском университете произошли еще два — совсем мелких — события, однако оставившие тяжелый и неприятный осадок в моей душе. В 1928/1929 учебном году стал читать (вероятно, прекрасно!) курс лекций по истории эстетических учений В. Асмус. Совершенно не помню, по каким причинам я не стал слушать его лекции. Но в самом конце четвертого курса неожиданно (для меня) выяснилось, что нужно сдать экзамен по эстетике. И я сдал экзамен Асмусу — позорно плохо. С тех пор прошел уже 61 год, а мне до сих пор очень стыдно! Я постарался искупить свое прегрешение (без ведома Асмуса) изобильным чтением в дальнейшие годы книг по эстетике, но чувствую себя глубоко перед ним виноватым, по существу, ни за что ни про что его оскорбившим. Надеюсь, что сам Асмус об этом не помнит!
Другое событие было много противнее и хуже. Я мог бы быть горд, что меня решили оставить при университете «для подготовки к профессорскому званию», как это тогда называлось (аспирантура и защита диссертации тогда не существовали). Отзыв обо мне сами вызвались написать два профессора — Бакушинский и Сидоров. Но когда я пришел за отзывом к Бакушинскому, он мне весело сказал: «Знаете что? Напишите сами этот отзыв, а я его подпишу!» Мне не захотелось пользоваться услугами такой фальшивки, я повернулся и ушел. С А. А. Сидоровым получилось много неприятнее. Он сам написал мне длинный отзыв на четырех или пяти страницах. Отзыв начинался совершенно неумеренными дифирамбами по моему адресу, из них следовало, что я так учен, что меня незачем готовить в профессора, а надо прямо выбирать в академики Академии Наук! Дифирамбы занимали полстраницы, а далее следовало нечто в совсем ином роде: что я — явный притаившийся враг народа, человек, склонный к весьма сомнительным и опасным размышлениям и поступкам, сознательно извращающий самые основы марксистской теории и пр., и пр., и что меня надо не готовить в профессора, а немедленно хватать за шиворот и отправлять куда‑нибудь подальше, в места «не столь отдаленные» (или, вернее, вовсе не в «не столь», а в очень отдаленные). Я нисколько не утрирую «отзыв» Сидорова — он был написан гораздо затейливее и казуистичнее, но и гораздо гаже. Не понимаю, на что он рассчитывал, давая мне прочесть этот откровенный политический донос. Но он мне очень любезно сказал, что сам пошлет свой прекрасный отзыв куда следует. Я с некоторым трудом сумел «перехватить» это милое сочинение, но не ведаю, не послал ли Сидоров «куда следует» копию своего доноса. Университетское начальство он, во всяком случае, известил: вдруг прекратились все разговоры о моей «подготовке к профессорскому званию», словно их вовсе и не было. И никто к ним больше не возвращался.
Я покидал университет с недобрым чувством. Дипломных работ тогда не требовалось, я получил удостоверение о благополучном окончании учения с «направлением на музейную работу». Этой последней заботы мне совсем не было нужно — я и так давно уже был музейным работником.
В четырехлетием и в большей своей части достаточно бесполезном пребывании в Московском университете была, все же, заключена одна, но с огромным для меня значением, подлинная и глубокая радость, далеко перекрывавшая все кругом, все остальное. Это была встреча с моей будущей женой — Наташей Гершензон, дочерью философа, историка и пушкиниста Михаила Осиповича Гершензона. Уже на первом курсе, осенью 1925 года, я обратил на нее особенно пристальное внимание, несомненно под влиянием глубоко запавшего мне в душу сильнейшего впечатления от происшедшей, совершенно случайно и неожиданно, встречи год за год перед тем, в 1924 году, с М. О. Гершензоном (я уже рассказал о нем) — когда я в первый и единственный раз в моей жизни видел и слышал его и был потрясен мудростью его речи и поистине вулканическим его темпераментом. Я сразу заметил, что Наташа очень похожа на своего отца. Она действительно полностью унаследовала два основных качества его душевного строя: редкостный, блистательный талант ученого — и очень тяжелый и трудный характер, каждоминутное возбуждение, болезненную нервозность — ведь М. О. всю жизнь (как я потом узнал) мучил крайней нервозностью свою кроткую и безответную жену Марию Борисовну, сестру прославленного пианиста Александра Борисовича Гольденвейзера.
На первых курсах университета я не только присматривался и с каждым месяцем все более привязывался к Наташе, но в конце концов полюбил ее глубоко, искренне и абсолютно бескорыстно, нисколько ей не навязываясь и сколь возможно деликатнее скрывая свое отношение. Ведь такое чувство было впервые в моей жизни! Но ответного чувства я дождался не скоро. Не возражая сколько‑нибудь против моего дружеского внимания, она долгое время только мучила и дразнила меня, иногда довольно зло и жестоко надо мной смеялась. Как‑то раз я зачем‑то вздумал показать Наташе свои школьные табели со сплошными пятерками — не имея среднего образования, я очень дорожил этими табелями и берег их как доброе воспоминание о своем, казавшемся теперь бесконечно далеком, детстве. Но Наташа подняла меня на смех, сказала, что хвастаться мне нечем, что, конечно, я был пай — мальчиком и примерным «первым учеником» и т. д., — с какой‑то недоброй усмешкой. Я разорвал в клочки эти табели и выбросил, о чем до сих пор жалею. Но я просто не мог тогда понимать главного: что Наташе вовсе не хотелось впускать в свой внутренний мир никого постороннего.
Я лишь много позже узнал, что она свое глубокое, единственное, раз в жизни, чувство давно полностью истратила, в свои тринадцать — четырнадцать лет, на молодого человека много старше нее; его звали Олег Поль, он был в годы Гражданской войны, разрухи и голода в той же детской колонии, в которой была и Наташа. Он, видимо, не ответил на ее чувство, ушел в монахи, стал отшельником в Кавказских горах. В годы гонения на религию, 1926–м или 1927–м, он был арестован с другими отшельниками и по неправедному суду расстрелян. Память об Олеге Наташа хранила как величайшую драгоценность всю свою жизнь; за месяц до своего семидесятилетия, в 1977 году, умирая от рака, она попросила положить ей в гроб фотографию Олега — единственную, какая у нее была.
Я со всеми своими чувствами был ей совершенно не нужен.
Мое отношение к Наташе, сколько бы я ни пытался его скрыть, было, вероятно, ясно любопытствующим взорам посторонних, и это могло Наташу только раздражать. А мне расстаться со своим отношением к Наташе стало уже совершенно невозможно. Переносить сложившуюся ситуацию было тяжело. Особенно в те трудные 1927–1928 годы, когда так плохо, напряженно и, как казалось, совершенно беспросветно было дома. Я стал мрачным. А у Наташи настроение, словно в подражание ее отцу, менялось чуть ли не ежеминутно. Я, во всяком случае, не был способен уследить за его переменами и только впадал в тоску и безнадежность.
Своей кульминации неясное и непонятное мне поведение Наташи достигло летом 1928 года, когда ей было двадцать лет. Она уехала на месяц в Киев. Я стал писать ей чуть ли не каждый день, редко пропуская какое‑то короткое время, опасаясь, как бы не надоесть слишком большим обилием писем. Наташа отвечала регулярно, но постепенно письма стали приходить реже, а главное, стали какими-то равнодушными и небрежными. И наконец где‑то посередине ее пребывания в отъезде, когда я только собирался написать подробное письмо о виденном мною накануне и очень меня поразившем спектакле японского театра «Кабуки», приехавшего в Москву на гастроли, — вдруг пришло из Киева не письмо, а небрежная записка из нескольких, совсем немногих фраз, явно «для отписки», холодная и безразличная, явно свидетельствовшая о том, что мысли Наташи заняты чем‑то от меня отдаленным. Письмо о театре «Кабуки» написано не было, и я вообще решил больше ничего не писать. А Наташа до своего возвращения в Москву не подумала, почему это я вдруг перестал писать, и сама перестала писать тоже.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Книги похожие на "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал"
Отзывы читателей о книге "Моя жизнь и люди, которых я знал", комментарии и мнения людей о произведении.