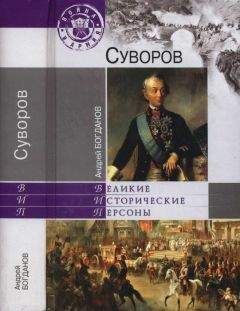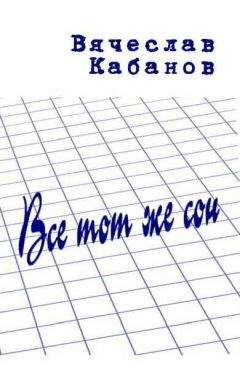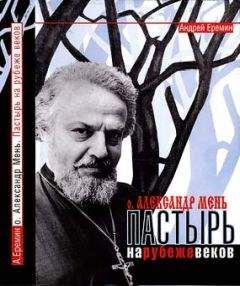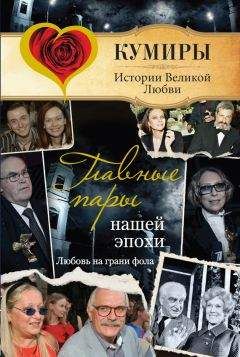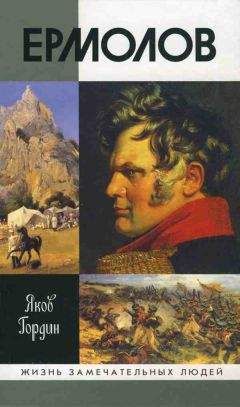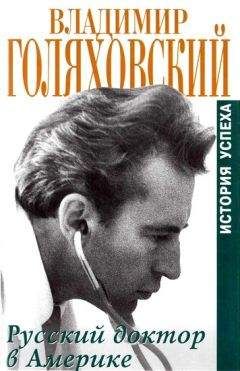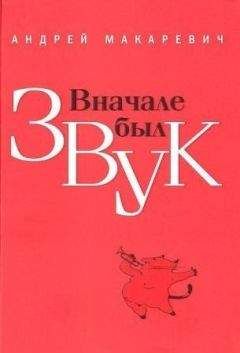Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Описание и краткое содержание "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать бесплатно онлайн.
Прямой потомок Чингисхана и зять М. О. Гершензона, князь Андрей Дмитриевич Чегодаев (1905–1994), доктор искусствознания, профессор, художественный критик, знаток русского и западного изобразительного искусства, старого и нового, близко знавший едва ли не всех современных ему художников, оставил книгу страстных воспоминаний, полных восторга (или негодования) по отношению к людям, о которых он пишет.
В завершение повествования о моем детстве я хочу коротко сказать о двух вещах, имевших отношение не ко мне, а к старому Саратову, — о саратовских мальчишках и саратовских частушках.
Пристани на Волге и ее берега были густо «заселены» мальчишками. Из кого они вербовались — из лодырей, пропускавших уроки, или прямых беспризорников — не знаю. Я иногда наблюдал их по воскресеньям, не участвуя в их затеях и делах. Эти ребята жили рекой. Они приветствовали криками проходившие пароходы и добрыми напутствиями — отплывавшие. Они досконально знали ремесло речников; я думаю, что из них выходило немало хороших матросов, а может быть, и капитанов тех пароходов, что бороздили воды великой реки на всем ее долгом протяжении.
Они могли по звуку определять, какой пароход подходит: самого парохода еще не было видно, а они по его сигналам различали с полной точностью, идет ли белоснежный пароход компании «Самолет» или красный с черным пароход компании «Кавказ и Меркурий». Откуда, кстати, взялось такое нелепое название пароходной компании? Надо думать, две компании слились и пожелали все же сохранить их прежние самостоятельные названия. Пароходы компании «Самолет» считались, безусловно, лучшими, и мальчишки эту разницу отчетливо отмечали.
Хочу добавить еще одну деталь о саратовских пристанях. С этими пристанями на Волге связано не только воспоминание о реке, о пароходах, их разнородных гудках, но и еще с двумя занятными деталями, которые только тогда и могли быть — с камышинскими арбузами и саратовскими частушками.
Камышинские арбузы были гигантских размеров, ослепительно белые, с очень тонкой коркой, поэтому их бросать как обычные арбузы было нельзя. Их можно было только нести почтительно и перекладывать с величайшей осторожностью. Но под этой самой белоснежной корой была ослепительно красная мякоть, состоявшая из чистейшего сахара. Я никогда больше нигде таких арбузов не видел и даже не знаю, существует ли теперь нечто подобное.
Что касается саратовских частушек, я слышал их очень много, и дореволюционных, и послеоктябрьских. Такое фольклорное творчество хорошо отражает время. Но все- таки между двумя историческими этапами оказывалась в данном случае большая разница. Дореволюционные частушки были, в общем, довольно бессмысленными, часто шутовскими и развлекательными. Вот, например, такая:
У попа‑то, рукава‑то —
Батюшки!
Ширина‑то, долина‑то —
Матушки!
Или еще более экстравагантная:
Шла машина из Тамбова —
Се — ре — жа.
Под горой котенок спит —
Ну так что жа?
Правда, в эту последнюю частушку, при всей ее нелепости, проник все же маленький клочок реально бывшей истории: ведь железная дорога к Саратову первоначально была начата не с Рязани, а с Тамбова, и это важное для всей этой части России событие успело увековечиться в частушке.
После революции характер частушек радикально изменился — они стали реально связаны со своим временем, хоть и не слишком для этого времени лестно. Вот, например, так:
Ленин Троцкому сказал:
Пойдем, Троцкий, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию!
Или еще хлеще:
Матрос молодой,
В спину раненный,
На базаре спекульнул
Рыбой жареной.
Я смягчил не совсем изящное звучание текста этой частушки. Но эти творения подлинно народного наблюдения и размышления не стеснялись в выражении результатов своих наблюдений действительности и размышлений по ее поводу.
Революционное отрочество
Февральскую революцию я, можно сказать, увидел воочию из окна своей комнаты. Услышав крики на улице, я подошел к окну и увидел, что по противоположной стороне Немецкой во всю прыть удирает городовой, придерживая руками свою шашку и полы шинели, а за ним несется кричащая и улюлюкающая толпа, его ловящая. Это зрелище стало как бы символическим обобщением смысла Февральской революции. Но, как я уже говорил, ни она, ни Октябрьская революция долго не вносили существенных перемен в повседневный обиход провинции, далекой от Москвы и Петрограда. Летом 1917–го и 1918 года мы жили на дачах на разъезде в семи верстах от Саратова; зиму 1917–1918 года я ходил в третий класс своего училища; летом 1918 года поехал с отцом в Царицын, и только когда мы доплыли до Астрахани и должны были из‑за военных действий тотчас же вернуться в Саратов, я ощутил достаточно отчетливо, что произошли великие перемены во всей нашей жизни. Я удивил маму, вернувшись из Царицына с бровями — до тех пор они были почти незаметны, а тут вдруг сильно потемнели.
Но серьезные изменения в нашей жизни начались во второй половине 1918 года, о них я уже рассказал. Отец уехал в Москву, не найдя никакого контакта с новыми советскими властями Саратова; из квартиры на Немецкой улице пришлось уехать, из школы я ушел. Зиму 1918–1919 года я никуда не выходил из Костиного дома на Вознесенской улице и без конца читал все новые и новые книги. У Кости было тридцатитомное собрание сочинений Диккенса в издании «Просвещения», и я прочел почти все диккенсовские романы, начиная с превосходно (хоть и вольно) переведенных Иеринархом Введенским «Записок Пиквикского клуба». Этот роман — лучший роман Диккенса, с ним может соперничать только предпоследний его роман «Наш общий друг», но я оценил его по достоинству много позднее. Костя, вернувшись из армии, подарил мне это собрание сочинений Диккенса — оно навсегда осталось доброй памятью о нем. Что я читал еще в эту зиму, не могу вспомнить.
Резкое изменение всей моей жизни, положившее конец детству и сделавшее меня без всякого юношеского перехода взрослым и самостоятельным человеком, произошло первого мая 1918 года. В этот день меня взял на службу доктор Николай Яковлевич Трофимов, давний близкий друг нашей семьи, только что назначенный главным врачом Второй советской здравницы (туберкулезной), организованной Саратовским губздравотделом на Трофимовском разъезде, в семи километрах от города, на дачах, принадлежавших ранее богатому купцу Ханову, и на многих соседних. Я был зачислен сначала рассыльным, но через неделю переведен в конторщики. Мне была поручена медицинская канцелярия: я принимал и записывал прибывающих больных, спрашивал нужные сведения — о возрасте, профессии, месте работы, есть ли медицинский диагноз или еще нет, распределял по дачам, а в дальнейшем вписывал в книгу результаты медицинского анализа и другие сведения, по указаниям Николая Яковлевича. Я был очень горд, что пригодилось мое знание латинского языка, когда вписывал в книгу «каторрум апицис пульмонум» — конечно, латинскими буквами. Кроме того, в мои обязанности входило каждый день обходить несколько дач, чтобы спрашивать больных о их нуждах и просьбах. А дач было больше сорока и больных — человек пятьсот, так что работы у меня было много. Мне надо было отмечать перемещения больных и их отъезды из здравницы.
Я уже говорил, что той зимой мама работала конторщицей в губздравотделе — Николай Яковлевич взял ее оттуда к себе. Мы поселились на даче с Николаем Яковлевичем, его женой и детьми.
Здравница находилась верстах в двух от железной дороги, но совсем близко от нее проходила ветка трамвайной линии, проложенной верст на двадцать до Кумысной поляны. Большую часть территории здравницы занимал огромный фруктовый сад со старыми яблонями и грушами и множеством вишневых деревьев. По краю этого сада, до дальнего леса и на опушке этого леса, были расположены лучшие, хановские дачи, другие были дальше, на безлесном холме. Фруктовый сад находился в ложбине под довольно высокой горой, в самом низком месте сада был искусственный, залитый цементом пруд с купальней.
В здравнице был порядочный персонал — врачи (около десяти человек), бактериолог, медицинские сестры, няньки (их звали «хожатками»), санитары, завхоз и его помощники, кладовщики, судомойки, конюхи, кучера, сторожа. В канцелярии, кроме мамы и меня, были два человека — делопроизводитель и счетовод (так именовали бухгалтера). В первое лето делопроизводителем был Александр Александрович Гедгарт, полный красивый человек лет сорока, немец, владевший до революции огромными мукомольными заводами в Саратове. С местом счетовода в первое лето получилось нечто вроде плохой комедии восемнадцатого века: сначала счетоводом был маленький худенький человек, еврей, работник безукоризненной честности, но по фамилии Плут; вскоре его с повышением взяли в Губздравотдел, а на его место явился толстый огромный поп в рясе, с явно жуликоватой физиономией и по фамилии, конечно, Добросовестный.
Многолюдное население здравницы, образовавшее замкнутое, живущее своими законами сообщество, было крайне разнообразным по национальному составу. Тут были русские, украинцы, в их числе беженцы от войны с Западной Украины, белорусы, поляки, чехи, евреи, в большом числе поволжские немцы, французы, армяне, грузины, татары, китайцы! Ночной сторож сада был китаец, очень пугавший загулявшие допоздна в саду влюбленные парочки. Завхозом в первое лето был высокий полный молодой немец Генрих Генрихович Финк, в то же лето женившийся на медсестре, высокой русской красавице в кустодиевском стиле.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моя жизнь и люди, которых я знал"
Книги похожие на "Моя жизнь и люди, которых я знал" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал"
Отзывы читателей о книге "Моя жизнь и люди, которых я знал", комментарии и мнения людей о произведении.