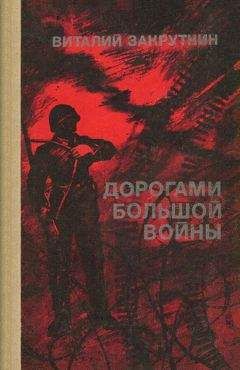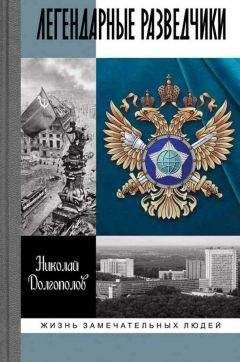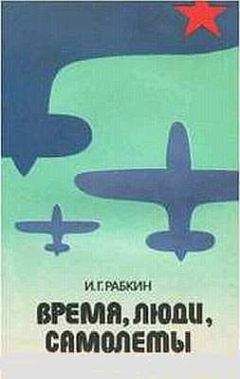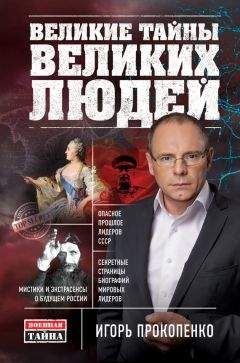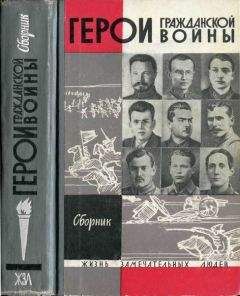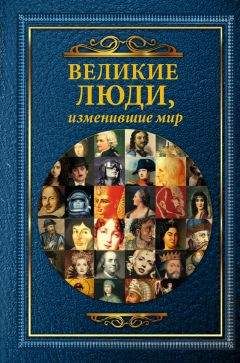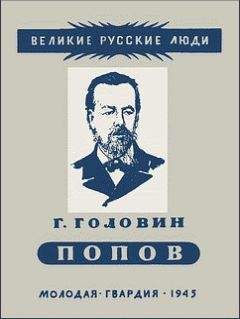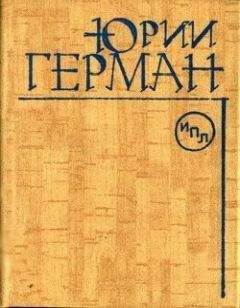Александр Мясников - Великие русские люди
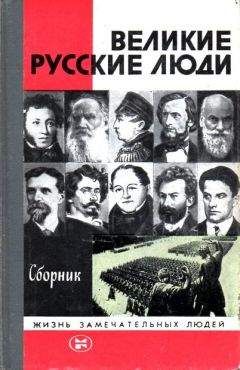
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Великие русские люди"
Описание и краткое содержание "Великие русские люди" читать бесплатно онлайн.
В суровые годы Великой Отечественной войны в издательстве «Молодая гвардия» выходили небольшие биографические книжечки о прославленных наших соотечественниках. Они составляли серии «Великие русские люди» и «Великие люди русского народа», заменившие на время войны серию «Жизнь замечательных людей». В год празднования сорокалетия великой Победы издательство ознакомит читателей с некоторыми из этих биографий.
Да, надо говорить и о родстве его с Пушкиным. Как в свое время Пушкин, Маяковский стал преобразователем русского стиха, сообщившим ему свободу и гибкость разговорной речи. Как и Пушкину, Маяковскому были свойственны быстрота, яркость, неожиданность поэтического темперамента. Как при существовании Пушкина не был мыслим в художественной литературе никакой иной «властитель дум» людей, любящих и понимающих поэзию, так и во время деятельности Маяковского стало правилом, если не подражать ему в самом понимании задач поэзии, то во всяком случае, считаясь с работой Маяковского, изобретать какие-то параллельные ему пути для своей работы в поэзии. Могут возразить, что Маяковский не целиком завоевал поэтическую арену, что наряду с ним жили и действовали поэты, инакомыслящие и инакопишущие. Конечно, мы не имеем в виду полного затмения Маяковским других индивидуальностей, как не было этого и при Пушкине. Но все-таки главной, объединяющей вокруг себя фигурой поэзии оставался Маяковский, как главной объединяющей и дающей жизнь поэзии прошлого века фигурой остался Пушкин.
И при Пушкине жили и Баратынский, и Языков, и Вяземский, и после его смерти жило много других хороших и просто поэтов. Но все же они жили при Пушкине или после него: летосчисление существования новой русской поэзии ведется от него или в применении к нему. Точно так же летосчисление новейшей русской поэзии со времени советского ее существования может вестись только в применении к творчеству Маяковского.
Как известно, Пушкин неоднократно возвращался к мысли о том, что развитие русского стиха ушло от понимания его народом, изменив внутреннему соответствию строю народной речи, ее ритму, ради усвоения правил стихосложения, пришедших к нам от чужих литератур. Сам Пушкин не раз заявлял о ему уже надоевших формах ямба, им же самим привитого к дичку русского стихосложения.
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора бы его оставить, —
пишет Пушкин в «Домике в Коломне».
При этом нужно принять во внимание, что пушкинский четырехстопный ямб (которым написан, например, «Евгений Онегин») был сам по себе чрезвычайно емким и гибким размером, позволявшим вести речь свободно и широко по сравнению со стихом ломоносовским и даже державинским. И все-таки сам Пушкин уже искал для себя новых выразительных средств. Что же можно было сказать об этом размере через сто лет его существования? «Мальчики», которым он был «в забаву», состарились и успели умереть, а новые поколения не придумали ничего взамен ему и другим вместе с ним родившимся формам стиха. А между тем сам Пушкин указал «младому, незнакомому племени» дорогу, по которой он думал вести русский стих.
Дорога эта была в обращении к народной русской речи, к говору людских масс, к их пониманию размера, благозвучия, композиции речи, как проявилось это понимание в пословицах, поговорках, прибаутках, сказках, песнях, заговорах и заклинаниях. К этому он и стремился, прислушиваясь к говору московских просвирен, к сказкам Арины Родионовны, к песням о Стеньке Разине.
Но ему нужно было строить большое и безалаберное хозяйство русской книжной речи, засоренное галлицизмами, испытавшее на себе все влияния, начиная от греческого церковного языка, кончая книжными иностранными терминами, внедрившимися вместе с проникновением научных и технических знаний. Пушкину нужно было создать заново русский стих и русскую прозу, драму и лирику. Создать заново, дать ей самостоятельность и независимость. Гениальный Жуковский при всей его одаренности был в значительной мере не столько самостоятельным творцом, сколько тончайшим передатчиком музыки чужих образов, чужих напевов. Лермонтов еще только начинал показывать свои силы. Языков, Дельвиг? Они были тоже зависимы от ранее развившихся литературных традиций. Пушкин как бы один отвечал за судьбы русской поэзии. Жизнь была коротка, а замыслы огромны. Проза и лирика, драматургия и полемика, эпиграммы и роман в стихах, повести и переводы! Какое неуемное сердце, какой размах постоянного кипения в труде, в горячке забот и задач!
Разве не похоже это на судьбу Маяковского? Разве не волевым напором, постоянным кипением, разгромом врагов и сбором друзей новой поэзии, новых задач, поставленных перед нею, характерен был этот неисчерпаемый источник тревоги и радости своего времени? Нет, они вовсе не были в разных столетиях — Пушкин и Маяковский. Они были вместе в одном тысячелетии: память о таких не меряется менее крупными отрезками времени!
Стихи и драматургия, кино и плакаты, лозунги и марши, эпиграммы и устные выступления в сотнях городов, на тысячах эстрад, с проповедью о новом — вот многообразие деятельности Маяковского. Изменились методы воздействия, изменилась аудитория, но неизменен облик труда поэта, живущего в самой гуще задач своего времени.
И наконец — и это главное, — надо сравнить взгляды на задачи и пути дальнейшего развития поэзии у Пушкина и Маяковского.
Пушкин часто задумывался над народным стихом. Он понимал, что после того, как книжная речь наберется сил, когда язык литературный приобретет богатство опыта, когда он пройдет первоначальную, подражательную стадию развития, — можно и должно будет обратиться к языку народному, к его строю и складу, внесение которых в литературную речь и будет истинным завершением развития литературного языка.
«В зрелой словесности проходит время, — говорит он, — когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию».
Это чрезвычайно важное высказывание Пушкина дает ключ к остальным его мыслям о развитии нашей словесности. Его же работа над сказками, его «Песни Западных Славян» и в особенности «Песни о Стеньке Разине», начало сказки о медведице «Как весенней теплой порою», наконец, «Сказка о попе и работнике его Балде» говорят об этих поисках Пушкина. Он искал русский стих безразмерного склада, ритма, идущий от внутреннего, душевного движения, переживания, а не внешне выверенный по метроному. Этот поиск речи, «точной и нагой», как называл ее Маяковский, замедляющейся и убыстряющейся в зависимости от внутреннего движения чувства, после Пушкина был ослаблен и затерялся в подражаниях образцам.
«Странное просторечие», о котором говорил Пушкин, была не та книжная речь, что установлена была незыблемым каноном для литературного языка. Даже Некрасов, пытавшийся обновить и вывести русский стих из однообразного повторения все тех же знакомых метрических форм, сообщить ему живость движения разговорной речи, не смог преодолеть груза книжности, общепринятых образцов и оборотов, условных красот и сравнений. И в Некрасове больше выразилась сила русской тоски, сила горя народного, чем сила цветения, яркости, смелости, бесконечного оптимизма народного искусства.
Но в творчестве Льва Толстого русская литература вновь поднялась на крепкие ноги речевой народной норы. Уже не писатель «сочувствовал народу» — народ сочувствовал писателю, видя в нем своего выразителя, и не только по тематике, а по строю мыслей, по способу их выражения.
И вот родился поэт, как будто порвавший все связи с традициями, отказавшийся от них, провозгласивший себя наново начинающим культуру поэзии. Казалось бы, что эти заявления ставят его вне всякой преемственности, делают безродным. На самом деле именно этот поэт — Маяковский — был ближе всех к выполнению заветов и Пушкина и Толстого.
Отказался он от книжности, от «условленного», избранного ограниченным кругом книжного языка. Отказался, потому что наступил зрелый период «русского искусства, требующий нового, своего, становления».
И переход Маяковского на сторону «улицы», которая была далека от книжной поэзии, был именно тем шагом, который предрек Пушкин для поэзии, шагом к «странному просторечию», казавшемуся странным или грубым, неизящным тем, кто привык к велеречивой напряженности книжного условленного языка.
Грубость Маяковского? А разве и к Пушкину не были обращены упреки в огрублении поэтического языка? Как возмущались языком «Руслана и Людмилы»! Этот язык объявляли «несоответственным» языку того слоя публики, который был «призван» судить литературные произведения.
Прочтите вновь заметки Пушкина о своих произведениях. Вы увидите, как много в них общего с полемикой Маяковского в отношении своих критиков. Перечитайте «Сказку о попе и работнике его Балде», вы почувствуете, как близко она стоит к «150 000 000» Маяковского. Окиньте непредубежденным взором всю широту, многосторонность, задорность и темпераментность деятельности обоих поэтов. Вы узнаете родовые черты великого предка в его потомке, принявшем на свои плечи груз обязательств постоянного движения вперед, борьбы с застоем, остыванием родной литературы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Великие русские люди"
Книги похожие на "Великие русские люди" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Мясников - Великие русские люди"
Отзывы читателей о книге "Великие русские люди", комментарии и мнения людей о произведении.