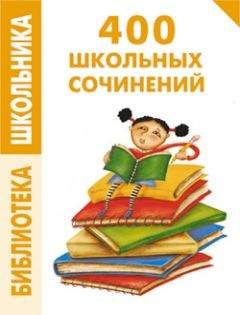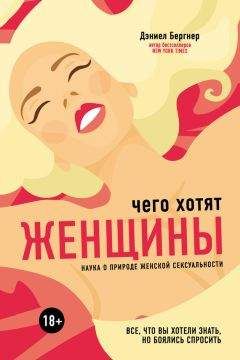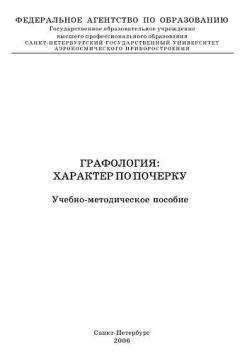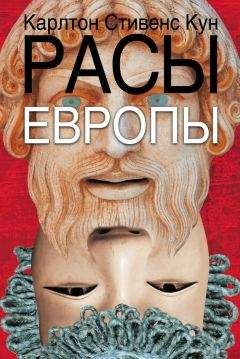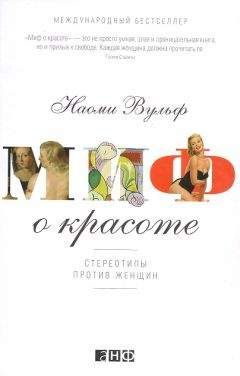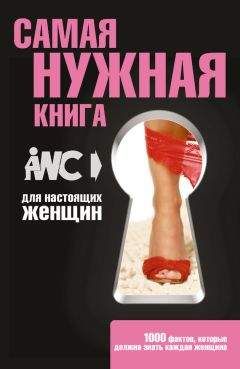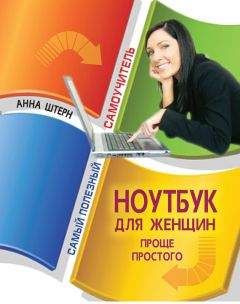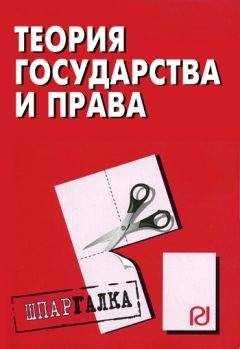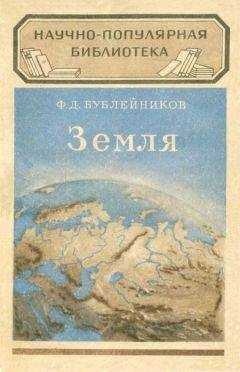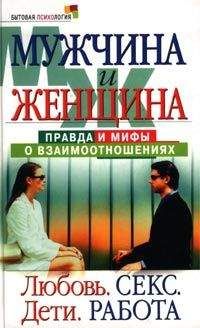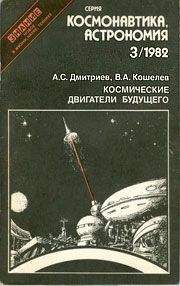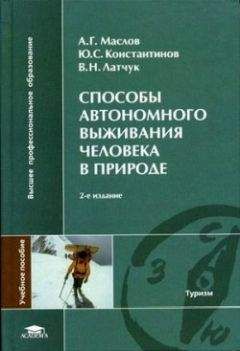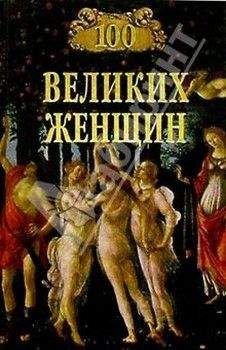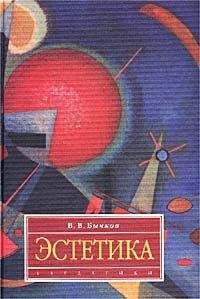Кирсти Эконен - Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме"
Описание и краткое содержание "Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме" читать бесплатно онлайн.
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.
Идеал комплементарности можно обнаружить в некоторых эстетических концепциях и дискурсивных практиках русского символизма. Во-первых, в идеале андрогинности, где в духовном плане соединяются маскулинность и фемининность. Во-вторых, комплементарность являет себя в культурном типе денди, где эти качества воплощены в более конкретной форме. В-третьих, с этой точки зрения я рассматриваю особенности репродуктивной метафорики (деторождения) в эстетической теории и практике символизма.
* * *Идеал андрогина как целостного и гармонического человека широко распространен в философской мысли начала XX века[98]. Античный миф о разъединении изначально цельного человеческого существа, упоминаемый в том числе в «Пире» Платона, нашел отражение как в научном, так и в художественном дискурсе fin de siècle. В числе «теоретиков» андрогинности (или бисексуальности) можно указать, например, Вейнингера, Юнга и Фрейда. В России, кроме уже названного В. Иванова, об идеале андрогинности говорили, например, З. Гиппиус, Н. Бердяев и С. Булгаков.
В основе идеала андрогинности лежит известное платоновское описание двуполых могущественных существ, которых Зевс разделил на две половины, с тех пор вечно жаждущие полноты и потому ищущие друг друга. Как указывает О. Рябов (Рябов 1997, 74), важным источником для появления этой идеи был также Ветхий Завет и утверждение о том, что Бог сотворил человека по образу Божьему «мужа и жену». Кроме Платона и христианства культурные корни идеала андрогинности лежат в романтизме. Идея андрогинности вдохновляла немецких романтиков. В. Соловьев, исследуя природу богочеловечества, увидел воплощение своих идеалов в образе андрогина (Matich 1974/75, 100, Григорьева 1996, 335–348, Рябов 1997, 71–79, Niqueux 2002). Эстетический дискурс раннего русского модернизма соединил эти традиции, понимая андрогина как богочеловека и как цельную творческую субъектность. Творческий потенциал андрогина заинтересовал также т. н. декадентов. Как пишет О. Матич (Matich 1979-b, 44), для декадента искусство превосходит жизнь и тем самым андрогин становится предельным эстетом[99].
Помимо представления об индивидуальном субъекте, андрогинность воспринималась также как идеальное бытие культуры и человечества, такое понимание нашло отражение в вышеназванной статье В. Иванова «О достоинстве женщины». О. Рябов (Рябов 1997, 77–80) разделяет в философии раннего модернизма два пути к андрогинности: любовь и творчество. В (эротической) любви мужчина и женщина могут стать частями друг друга, и тем самым их союз обладает качествами, свойственными каждой «половине». В творчестве речь идет прежде всего о сублимации эротической энергии и о перенесении модели эротической любви на метафорический уровень.
В контексте русского символизма, как и в контексте декаданса вообще (см., напр.: Praz 1970, 334), андрогин стал символом соединения полярностей и символом творческой активности[100]. В этом отношении андрогин совпадает с искусственным полом художника «Kunstlergeschlecht», который обозначает идеальный пол для творческого и продуктивного субъекта. Этот «пол» — или конструкция пола — является желательным и положительным из-за заложенной в нем творческой активности. У Иванова таким художественным и творческим полом является Дионис, двуполый бог. В идее и в идеале «Kunstlergeschlecht» заключена двойная мысль: здесь комплементарность обеспечивает индивидуальность, оригинальность, исключительность и творческое богатство. О. Матич (Matich 1979-b, 48) пишет об андрогине как о синтезе внутренних дихотомий художника (творческого субъекта), как о богоподобном состоянии. В контексте русской философии «андрогинную репродукцию» и «Kunstlergeschlecht» можно понимать также как прототип «нового» (желаемого) типа духовной (ре)продукции (в духе Н. Федорова), как способ преодоления природы.
Вопрос о «Kunstlergeschlecht» был центральным, важным, даже роковым для пишущих женщин символистской эпохи. Причины их интереса к этому вопросу были, однако, иные, чем у авторов-мужчин. Женщины не жаждали освобождения от излишней рациональности, сознательности и т. д., но стремились к субъектной позиции и к освобождению от тех коннотаций, которые несла с собой их (предполагаемая) фемининность. В идеале андрогина многие авторы-женщины того периода увидели возможность преодоления своего «нетворческого, пассивного пола». Одной из писательниц, провозгласивших эту идею, была В. Вульф, которая в последней главе книги «А Room of One’s own» (1929) разработала романтическую идею об андрогинной психике, о соединении маскулинного и фемининного в одном индивиде. На русской почве еще за 30 лет до В. Вульф Зинаида Гиппиус выстроила теоретическую и практическую модель андрогинности. В статье «Zinaida Gippius and the Unisex of Heavenly Existence» О. Матич рассматривает идеал андрогинности Гиппиус в свете господствующего религиозно-философского, а также эстетического дискурсов (см.: Matich 1974/75, 99)[101].
Вопрос о связи идеала андрогинности с конструкцией авторства у Гиппиус Матич оставляет без внимания. К этому вопросу я вернусь в главе о Гиппиус (гл. 6), где я показываю, что андрогинность как творческая стратегия вела ее к завоеванию маскулинной, не андрогинной или «бисексуальной», позиции в дискурсе.
Как показывает К. Вейл (Weil, 1992) в книге «Androgyny and the Denial of Difference» (Weil, 1992), андрогинность является сложным и противоречивым вариантом реализации поисков женской положительной творческой позиции (субъектности). В первую очередь это связано с тем, что андрогин и «Kunstlergeschlecht» воплощаются в представителях мужского пола[102]. Представление об андрогине как о «мужчине с фемининными качествами» подтверждается, например, и тем, что В. Вульф находит самые яркие примеры андрогинности именно среди мужских авторов (Ките, Стерн, Кольридж, Пруст…). Помимо вышесказанного, как утверждает Баттерсбай (Battersby 1995, 39–40), вместо андрогина история литературы представляет выдающихся женщин нередко не как андрогинов, а как гермафродитов. Если андрогинность является для символистов духовным двуполым (божественным) состоянием, то гермафродитизм ассоциируется с телом, телесным дефектом. Как я покажу ниже, Гиппиус поддерживала идеал андрогинности, но ее воспринимали как гермафродита.
В данной теме хочется упомянуть работу «Woman and the Demon» H. Ауэрбах, которая исследовала влияние мифов на конструирование субъектности. Опираясь на материал английской викторианской культуры, она указывает на положительные стороны мифа о демонической женщине. Ауэрбах утверждает, что она, представляя по существу отрицательный образ, предлагала модель сильной и волевой женщины (Auerbach 1982, 62). Схожим образом, допустимо предположить, что идеал андрогина можно приспособить для конструирования женского творческого субъекта. Самой положительной с точки зрения конструирования женского авторства чертой андрогинности и «Kunstlergeschlecht» является то, что ставится под вопрос эссенциализм и представляет модель, которая, на самом деле, построена на идее конструктивного понимания пола (Ekonen 2007)[103]. Идея конструктивности пола заложена уже в таких определениях андрогина, как «artistic sex» (Praz 1951, 320) и «artificial gender» (Matich 2005, 19–20). Таким образом, идея артистического (фиктивного) пола андрогина ведет к пониманию конструктивности пола.
* * *Тип денди, популярный в модернистской культуре[104], воплощает некоторые черты андрогинности на конкретном уровне поведения. Однако если андрогинность теоретически может воплотиться и в женщинах, и в мужчинах, то денди является исключительно мужчиной с некоторыми фемининными качествами. К тому же в отличие от андрогина в денди фемининное и маскулинное соединяются, не заключая в себе дополнительных философских или утопических коннотаций.
Широкое культурно-историческое исследование явления дендизма в России и в Западной Европе можно найти, например, в книге О. Вайнштейн «Денди» (Вайнштейн 2005). В центре моего внимания будет не столько мужской тип, следующий требованиям моды и своеобразным правилам поведения, сколько денди-эстет. Я исхожу из того, что культурный образ денди-эстета содержит качества, которые делают ясным гендерный порядок эстетического дискурса. В данной связи я хочу обратить внимание лишь на некоторые дискурсивные практики в области дендизма, относящиеся к позиции творческого субъекта.
Подобно идеальному андрогину, денди никогда не стремится к отказу от своего пола. Будучи однозначно мужчиной, денди присваивает такие фемининные конкретные свойства, как красота, мода, забота о себе, чистота, а также такие психические фемининные характеристики, как нарциссизм, самодостаточность и выставление себя напоказ в качестве объекта для постороннего взгляда. В образе денди воплощена та феминация мужчин, против которой возражал, например, О. Вейнингер в книге «Пол и характер». Сама концепция денди не приемлет женщину, а выбирает лишь необходимые для конструирования фемининные качества. В основе дендизма лежит предположение о том, что женщина является ненужной, так как фемининность может быть воплощена и в мужчине. В дендизме, заимствующем фемининные качества, проявляется то амбивалентное отношение к категории фемининного, которое свойственно символистской эстетике в целом: фемининность является желательной, а женщина вызывает неприятие[105].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме"
Книги похожие на "Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Кирсти Эконен - Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме"
Отзывы читателей о книге "Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме", комментарии и мнения людей о произведении.