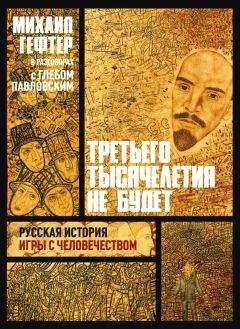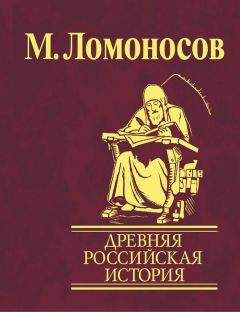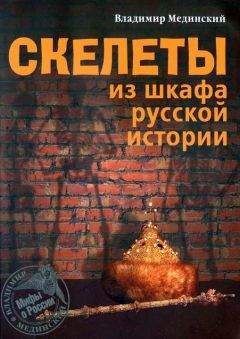Михаил Погодин - Древняя русская история до монгольского ига. Том 2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Древняя русская история до монгольского ига. Том 2"
Описание и краткое содержание "Древняя русская история до монгольского ига. Том 2" читать бесплатно онлайн.
Михаил Петрович Погодин — известный русский историк, археолог и журналист.
Погодин собрал ценнейшую коллекцию древнерусских рукописей и исторических документов, поэтому его исследования, основанные на изучении первоисточников, имеют большую научную ценность. Основу исторических взглядов Погодина составляло признание самобытности русского исторического процесса. Он полагал, что в основе русской истории лежит «вечное начало, русский дух» и полностью отсутствует внутренняя борьба. Наличие этой борьбы, как основной черты общественной жизни, Погодин признавал только для стран Западной Европы. Первоначально Погодин стоял на позициях свянофильства, но постепенно отошел от этих взглядов и выступил за необходимость сближения России с Западом. Изданная в 1871 году «Древняя русская история до монгольского ига», в которой Погодин обобщил свои исследования по древнерусской истории, стала заметным событием в русской исторической науке. За свой вклад в развитие исторической науки Погодин был удостоен многих научных и почетных званий.
Ярослав разделил свои владения, — «Русскую землю, налезенную трудами отцов и дедов», — между пятью сыновьями, предоставив еще прежде Новгород старшему, шестому, который умер ранее его — первые удельные княжества в пределах прежних племен. (Новгород, Киев, Чернигов, Переяславль, Владимир Волынский, Смоленск, Полоцк оставался во владении Рогнедина сына Изяслава).
Ярослав разделил, но так, что разделенная им Русская земля составляла все-таки одно целое, одно общее владение, где главный город должен был принадлежать всегда старшему в роде, брату после брата, мимо сыновей, которым следовало дожидаться своей череды. Так точно и во всяком уделе стольный город должен был принадлежать старшему в роде того Ярославова сына, которому он по его завещанию был предоставлен. Русская земля стала одной большой общиной, в которой все потомки Ярослава имели право каждый на свою часть, как ныне в сельских общинах земля находится в общем владении. Как бы по лестнице князья поднимались поочередно, и становились, наконец, кому случалось дожить, на верхнюю ступень, то есть получить стольный город Киев.
Этот обычай, принесенный, вероятно, с Севера, имел решительное влияние на всю нашу древнюю государственную историю и обусловливал все ее явления.
Вследствие этого обычая у князей не было постоянного пребывания, поземельной, наследственной, государственной собственности, а только временное пользование. Они даже и не думали о ней, никакое место не считали своим, а смотрели с него на старшее и лучшее, вплоть до Киева, который по порядку мог достаться каждому из них и составлял предмет его задушевных желаний. Отец, умирая на том или другом столе, отдавал малолетних детей на руки своего преемника иногда без ничего, или отсылал в другое княжество на воспитание к брату, дяде или другому какому родственнику. Могли оставаться у них волости по особым обстоятельствам, как оброчные статьи, на правах частного владения.
Сами княжества не имели определенных границ, которые изменялись смотря по личным правам и обстоятельствам того или другого владевшего князя, иногда соединялись, иногда разделялись.
Но, говорят, где право, там и обида. Первоначальный обычай имел исключения: князь лишался права на тот город, которым не приходилось прежде владеть его отцу; он также мог потерять свое право за вину. Встречались недоразумения. Разные посторонние обстоятельства могли нарушить обычай: народное избрание, воля умирающего князя, имевшего почему-нибудь особенную силу, малолетство законного наследника. У иных князей недоставало терпения ожидать очереди, и они спешили воспользоваться благоприятными обстоятельствами, в которых случайно находились. Притом ломоть в чужой руке всегда кажется длиннее, чем в своей; стремление усиливаться, распространять свои владения за чужой счет, обнаружилось еще в первом периоде, когда бывало только по два, по три князя; теперь же, когда число их с каждым годом становилось больше и больше, споры возникали гораздо легче, за которыми следовали распри и междоусобие: князья начали волоститься, воевать между собой за владения, ценимые по мере доходов, и входить в союзы с этой целью, под тем или другим предлогом, по тому или другому праву. Ни княжеские съезды, которые придумал Владимир Мономах, представитель удельного периода с хорошей его стороны, ни убеждения духовенства, всегда ревностного к прекращению междоусобий, не могли воспрепятствовать развитию этого зла. Во всех княжествах происходили одни и те же явления: войны, впрочем, не слишком кровопролитные. Иногда они уменьшались, благодаря способностям того или другого великого князя; иногда увеличивались вследствие побочных обстоятельств. Война вообще была главным занятием князей.
Кроме междоусобий — они должны были беспрестанно стеречь Русскую землю от набегов литовцев и кочевых половцев, которые заместили на юге печенегов, и отражать их нападения. Иногда же они сами призывали их на помощь против своих соперников.
Дружина, которая разделялась на старшую и младшую, бояр и отроков или детских, жила одной жизнью с князьями. Дружиной всякий князь дорожил потому, что она составляла всю его силу, и без нее он был, как без рук: от дружины он получал первую помощь и первый совет. «С добрым думцею, говорит Даниил Заточник, князь высока стола додумается, а с лихим думцею и малого стола лишен будет». Дружина обходилась с князьями запанибрата, участвовала во всех их делах, и пировала с ними вместе. Она не водворялась нигде на постоянное жительство, а следовала постоянно за своим князем, от которого, разумеется, всегда могла ждать лучшего, чем от чужого, приходившего на его место со своими людьми. Если князю надеялся где-то устроиться лучше, то и дружина его также, а положительное содержание, кормление, определялось везде, вероятно, одинаково, из предназначенных на то волостей.
Княжеский обычай столонаследия имел, следовательно, великое влияние и на отношения дружины к государственному устройству: как в первый, норманнский период Русской истории, не могло установиться у нас на особых правах высшее гражданское сословие, аристократия, потому что дружина была не постоянной, а сборной, иногда даже наемной, сбродной, часто переводилась и возобновлялась, и состоя при всяком князе из новых пришлых людей, всегда на особенных условиях, зависела от князя, — так и в удельный по преимуществу период, странствуя за князьями из города в город, без поземельной, наследственной собственности, а только с правом, или лучше, обычаем пользования, притом очень малочисленная и рассеянная по отдельным княжествам, она не могла составить сильного сословия и всегда находилась в полной зависимости от князей, как князья зависели от нее, — они были связаны между собой одинаковыми выгодами.
Переходя обыкновенно с князем, бояре имели право переходить от одного князя к другому, оставляя в том и другом случае частные свои владения, если у кого какие были. Они дорожили этим правом перехода, которое сочлось бы наказанием на Западе, где всякий прирастал к тому месту, к тому владению, которое досталось ему при первом дележе и поступало в его роде от поколения к поколению. Об оседлости у бояр не было мысли, как и у князей. Война была главным их занятием, вместе с князьями.
Иноплеменники часто встречаются в приближении у князей: из чуди, половцев, ясов.
Города, с военным своим населением, к которому присоединились и первоначальные их жители, принимали по временам участие в текущих делах, в избрании и удалении князей, в согласии или несогласии на ведение войны: «Новгородцы бо изначала и Смолняне, и Кыяне, и Полочане, и вся власти, якоже на думу, на веча сходятся; на что же старейшие думают, на том же пригороди станут». Князья при вступлении на стол всякий раз договаривались с людьми.
Народу сельскому в удельный период стало тяжелее против прежнего, потому что при уделах князь стал ближе лицом к нему, и он должен был нести лишние повинности. Полюдья, или княжие объезды, как для суда и расправы, за которые получалась пошлина, так и для собирания дани, исправлялись чаще лично. Мономах велит, правда, детям «худого смерда не давать в обиду», но не все князья были так благодушны. Междоусобия отражались и на селах. Надо было содержать прохожие толпы и доставлять им все нужное. Походами вытаптывались поля, пожарами истреблялись жилища и запасы. Верхние волнения захватывали реку глубже и глубже. Но зато, если народ подвергался неизвестным ему прежде тревогам, если увеличивались его потребности, то, с другой стороны, больше возбуждался его ум, ощущалась необходимость в труде, увеличивалась его самодеятельность. Нужда учила народ есть пироги, и он становился смышленее, заботливее, подвижнее. Значительная торговля, продолжавшаяся с Грецией и немецким западом, содействовала его благосостоянию. Жизнь вообще была сносной, и песни распевались по-прежнему, за работой и по праздникам, на свадьбах, в хороводах и в посиделках, — песни, в которых слышится нужное чувство и развитие мирных добродетелей, любовь родительская, в особенности к дочерям, и вообще живо представляется величие русской семейной жизни. Древняя русская свадьба со своими знаменательными обрядами представляет целую поэму и свидетельствует о значительных успехах общежития.
Путешествия в Константинополь, на Афон, в Иерусалим, на Запад, одни с духовной, другие с торговой целью, служили средством для распространения познаний, вроде того, как у западных народов крестовые походы.
Духовенство сеяло благие семена и открывало пути для образования, появлялись такие деятели и учители, как митрополит Никифор, Кирилл Туровский, Авраамий Смоленский, Симон и Поликарп печерские, которые были достойными преемниками Иларионов, Антониев, Феодосиев, Варлаамов.
Постановления церковные, и в особенности обряды, соблюдались строго, и малейшее уклонение подавало повод к сомнениям и прениям. Вопрос, например, о разрешении мяса по средам и пятницам, во дни господских праздников, взволновал всю Русь, и князья принимали в нем живое участие, пока, наконец, уже в Константинополе он был решен.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Древняя русская история до монгольского ига. Том 2"
Книги похожие на "Древняя русская история до монгольского ига. Том 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Погодин - Древняя русская история до монгольского ига. Том 2"
Отзывы читателей о книге "Древняя русская история до монгольского ига. Том 2", комментарии и мнения людей о произведении.