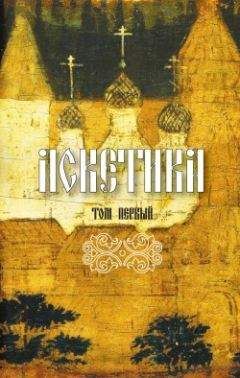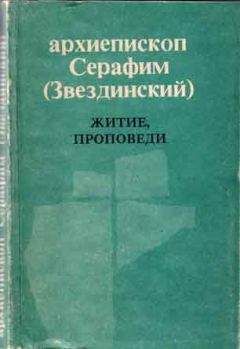Сергий Булгаков - Малая трилогия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Малая трилогия"
Описание и краткое содержание "Малая трилогия" читать бесплатно онлайн.
Малая трилогия протоиерея Сергия Булгакова включает в себя три части: «Купина неопалимая»(1927), «Друг Жениха» (1928), «Лествица Иаковля»(1929). Это опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери, Предтечи и богословское истолкование учения об Ангелах. Также в этом издании впервые публикуются записи о. Сергия Булгакова из записной книжки 1939–1942 годов.
В этих, собственно, словах и заключается ободряющий, утвердительный и уже, во всяком случае, личный ответ Иоанну.
Здесь происходит с ним таинственный разговор и подается ему нужный и спасительный для него ответ. Это странно, потому что слова Господа звучат как будто укоризненно или, вернее, предостерегающе. Однако в них нет осуждения, но есть ублажение. Блажен (μακάριος) Иоанн за то, что он не соблазнился о Нем, несмотря на пришедшее к нему испытание и постигшее его огненное искушение. Первая половина ответа Христова была сказана и направлена ко всем, ибо все зрели и могли знать пророчества, вторая же есть личный ответ Иоанну. Что последнюю следует понимать в положительном смысле, явствует и из того соображения, что иначе эти слова содержали бы явное осуждение заточенного Крестителя пред его учениками. И что именно таковой, ублажающий, смысл имеют слова Христовы, подтверждает более всего продолжение этой речи также об Иоанне, но уже к народу: «Когда же они пошли, Иисус начал говорить к народу об Иоанне» (Мф. 11,7; Лк. 7, 24). И эта речь была возвеличением Иоанна, как большего из рожденных между женами, одного из тех, в которых «оправдися премудрость от чад своих» (Мф. 11, 11, 19; Лк. 7, 27, 34–5). Эта речь, эта проповедь об Иоанне занимает центральное место в евангельском повествовании о нем, и, конечно, она не могла бы быть сказана, если бы «соблазн» имел место и опорочивал бы соблазнившегося. Напротив, здесь Иоанн восхваляется за твердость веры, явленной в соблазнах и испытаниях. Итак, что же произошло с Иоанном в темнице и что означает его посольство ко Христу? О чем между Ним и Предтечей происходил молчаливый и, может быть, неприметный для слушателей, но понятный для них самих разговор? Почему Иоанн все–таки посылал своих учеников с вопросом об этом?
Здесь мы позволяем себе привести и свой домысел, отнюдь не притязая на его безошибочность, но, полагая, что в таких таинственных и неразгаданных вопросах, где нет, да по существу и не может быть одного исчерпывающего ответа, позволительно делиться и своими личными предположениями.
Евангельский текст если не прямо противоречит, то и не дает никакого положительного основания относить вопрос Предтечи только к его ученикам, а не к нему самому. И, напротив, при непредвзятом чтении текст содержит совершенно ясно и недвусмысленно ту мысль, что спрашивал через учеников Иоанн и отвечал Господь именно Иоанну, хотя также через учеников его. Поэтому нельзя уклоняться от вопроса обходами, но следует встретиться с ним лицом к лицу: что же означал для Иоанна его вопрос и как он мог спрашивать, в самом вопросе допуская возможность как положительного, так и отрицательного ответа, включая в него или — или? Как возможен был в Иоанне самый вопрос после богоявления, после свидетельства в Евангелии Иоанновом, после всей его святой жизни, которая была отдана одной мысли, одной любви, одному ведению? Как мог друг Жениха, радующийся о Нем радостью совершенною (Ин. 3), вдруг усомниться, Жених ли это, или допустить, что Жених еще не пришел, и надо ожидать другого? Можно ли было как бы забыть о виденном и слышанном при крещении, можно ли утратить однажды уже достигнутое видение? Не удивительно, что перед трудностью этого вопроса и непонятностью ищут его, прежде всего, обойти и через то устранить, разъяснив его как–нибудь иначе. Но этот путь мы уже отвергли. Тогда маловерие нашептывает другой, широкий путь, который также приводит к уничтожению этого вопроса: это путь разных психологических объяснений из временной или общей слабости Предтечи. Последний якобы изнемог в темнице под бременем охвативших его сомнений относительно тех или других сторон явления Мессии, у него стало недоставать терпения в ожидании мессианского царства и т. д. и т. д. Эти психологические объяснения из личной немощи Предтечи имеют разные варианты, для нас в подробностях своих просто неинтересные, но все они имеют то общее между собою, что они уничижают Предтечу, считают его подвластным столь глубоким колебаниям веры и настроения, которые просто несовместимы с его высоким служением и духовною мощью. В самом деле, можно ли приписать Предтече такую ограниченность и духовную слепоту, чтобы он мог усомниться в Мессии на основании несоответствия Его образа еврейским мессианским чаяниям? Но где же тогда вся глубина его ведения о Христе, где его Евангелие о Нем, поведанное четвертым евангелистом (если, конечно, этот рассказ не вовсе аннулировать вместе с рационалистическими критиками)? Это означало бы просто упадок, если не прямо духовное падение, которое, конечно, недопустимо и о котором не имеется, разумеется, никаких данных. И разве пред лицом такого личного упадка и разложения Господь мог бы сказать о нем то, что Он сказал после ухода его учеников? Здесь есть явная несообразность. Но еще меньше оснований видеть здесь влияние страха смерти, который дается иногда преодолевать людям, жертвующим собой просто ради идеи, даже в природном, безблагодатном порядке. И в рассказе всех трех евангелистов о праведной кончине Предтечи нет решительно никаких к тому указаний, напротив, эти свидетельства, вместе с сознанием Церкви всех веков и народов, подтверждают, что здесь совершилась мученическая кончина величайшего из праведников бестрепетно, свято, ничем не омра–ченно.
Итак, и психологическое истолкование из слабости должно быть оставлено, как неуместное: Предтеча Христов на закате своего служения является выше тех слабостей, которые здесь предполагаются. Есть такие духовные достижения, которые уже исключают возможность обратного движения или падения, и Предтеча, «ангел», в этом отношении уже находится в состоянии равноангельскому т. е. исключающем возможность падения, которая первоначально была свойственна и ангельскому миру, как о том свидетельствует падение Денницы и ангелов его, но после него уже преодолена.
Нет, вопрос Предтечи знаменовал великое напряжение духа его. И то была не личная слабость, но человеческое изнеможение, обнажившаяся немощь немощного вследствие первородного греха человеческого естества. Это изнеможение и в Предтече настолько закономерно и необходимо, что отсутствие его было бы неестественным и непонятным пробелом в повествовании о нем. Евангельский рассказ об этом борении Предтечи свидетельствует о подвиге Предтечи, он есть новое его увенчание. Это есть для него Гефсимания пред надвигающейся на него Голгофой. В духовной жизни ничто не делается механически, автоматически, без подвига и личного участия. Человек никогда не становится вещью в руках Божиих, и благодать никогда не лишает его свободы. И дело Предтечи, рассматриваемое со стороны человеческого естества, было непрестанным подвигом, подвигом веры, воли, упования. Этот подвиг увенчивается благодатию Духа Св., силою которой он и жил в самосознании Предтечи, друга Жениха, и свидетельствовал о Христе в проповеди Евангелия о Сыне Божием. Эта проповедь, конечно, совершалась им по вдохновению, по наитию Духа Св., которое расширяло и углубляло его человеческое сознание. Предтеча в своем служении Предтечи находился всегда в этой вдохновенности, ибо Духа Св. он исполнился еще от чрева матери своей. В этой полноте и цельности, в этом единстве благодатной и человеческой жизни, тварному сознанию не дано видеть, где кончается человеческое и начинается божеское, где граница между подвигом и благодатию, достижением человеческим и даром Духа Св. И, однако, эта граница онтологически существует: благодать может по воле Божией оставить человека, и тогда в нем обнажается дно его человеческой немощи. Так был в Ветхом Завете оставлен Иов. Это промыслительное оставление может быть и по грехам человеческим, но может быть и «да явятся дела Божия» (Ин. 9,3), как было и в истории Иова, где это было выражением особливой к нему любви Божией, если можно так выразиться, особливого Божьяго к нему уважения. Эта богоос–тавленность есть испытание и искушение для человеческого естества, но они нужны для полноты подвига, ради свободы достижения, в котором должно принять участие всеми своими силами и человеческое естество. В этом испытании богоостав–ленность есть выражение высшей любви Божией и уважения Божия к своему творению. И это искусительное испытание видим мы и в душевном состоянии Предтечи в темнице. Нам не поведано, были ли подобные же искушения в прежней жизни Предтечи, но он не должен был вовсе их миновать: он должен был удержаться на высоте самосознания Предтечи не только в бого–вдохновенности своей, но и в богооставленности, безблагодат–ности человеческого своего естества. Причина искушения здесь, т. о., не субъективно–психологическая, но объективно–онтологи–ческая: не в колебаниях настроений и слабости, но в отнятии, конечно, временном, боговдохновенности, в промыслительной богооставленности.
Испытание Предтечи поэтому может и должно быть понято не из человеческой психологии с ее свойствами, но из общих законов духовной жизни. Ключ к пониманию того, что происходило с человеческой душой Предтечи, нужно искать в том, что творилось с человеческим естеством Богочеловека в Его человеческой богооставленности, в борениях Гефсимании и в крестных страданиях. Приникнем к этой тайне.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Малая трилогия"
Книги похожие на "Малая трилогия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергий Булгаков - Малая трилогия"
Отзывы читателей о книге "Малая трилогия", комментарии и мнения людей о произведении.