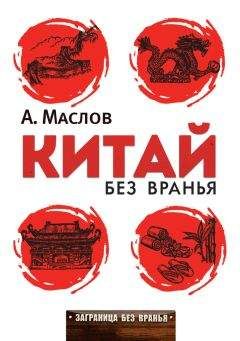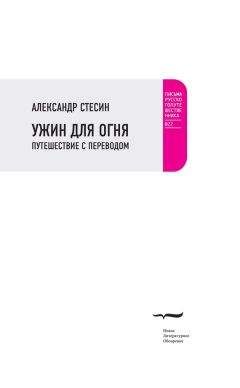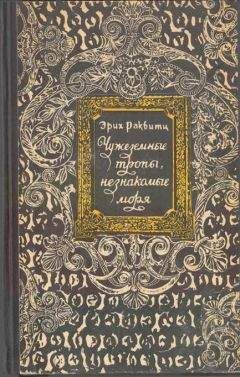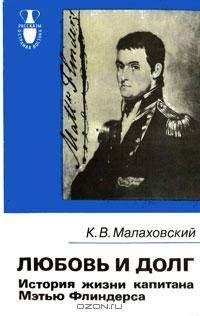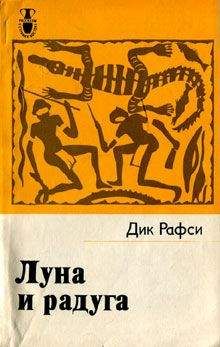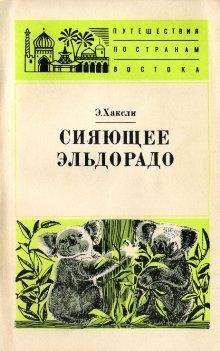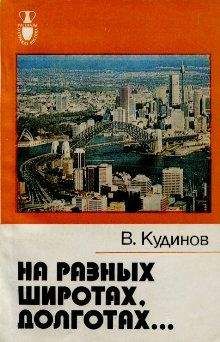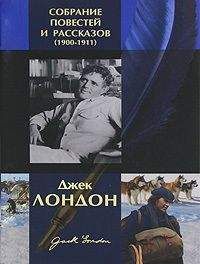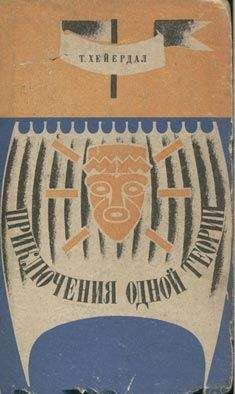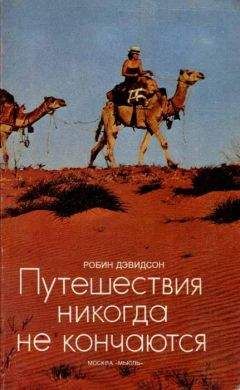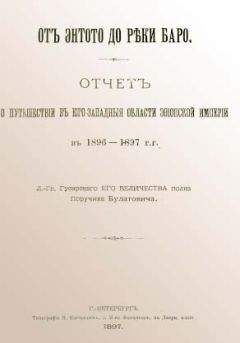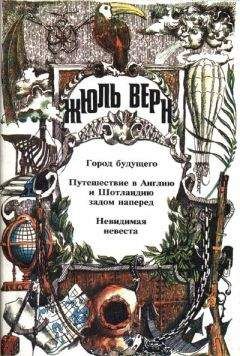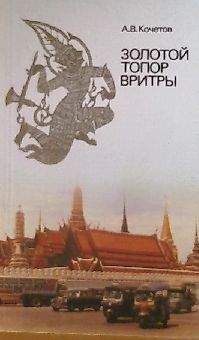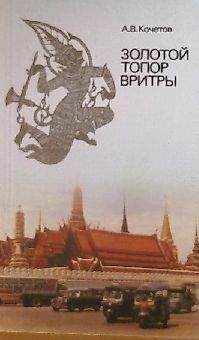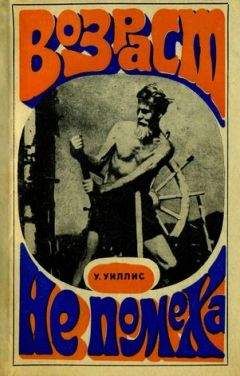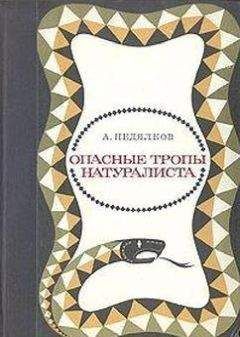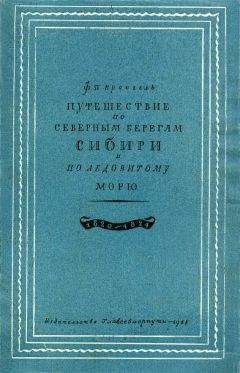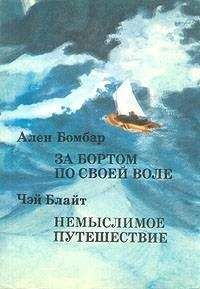Chatwin Bruce - Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987)
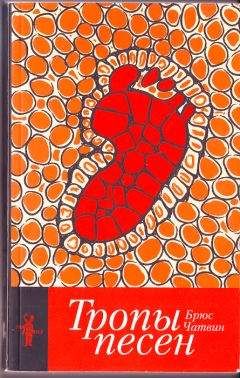
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987)"
Описание и краткое содержание "Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987)" читать бесплатно онлайн.
Ранее прославившийся своим эссеистическим трэвелогом-исследованием «В Патагонии», в «Тропах песен» Брюс Чатвин предпринимает путешествие внутрь еще одной мистерии, но уже на другом конце земли — во внутренней Австралии аборигенов.
Элизабет Врба написала ряд получивших международное признание работ, посвященных темпам эволюционных изменений. Именно она заострила мое внимание на спорах между «градуалистами» и сторонниками «теории скачка».
Дарвийисты-ортодоксы считают, что эволюция происходит размеренно и непрерывно. Каждое новое поколение едва заметно отличается от родителей; когда же различия накапливаются, вид переходит генетический «водораздел», и возникает новое существо, достойное нового линнеевского имени.
Сторонники «теории скачка» же, наоборот — памятуя о жестоких переломах двадцатого столетия, — настаивают на том, что каждый вид есть некий цельный организм, внезапно возникающий и внезапно исчезающий, и что эволюция происходит скачкообразно: вслед за короткими вспышками суеты наступают долгие периоды затишья.
Многие эволюционисты считают, что движущей силой эволюционных изменений является климат.
Виды в целом консервативны и сопротивляются переменам. Подобно супругам в непрочном браке, они живут себе и живут, то здесь, то там идя на мелкие уступки, пока наконец не достигают той точки взрыва, когда справиться с разладом уже невозможно.
В условиях климатической катастрофы, когда вся привычная среда обитания распадается на глазах, маленькое племенное сообщество может отделиться от сородичей и зажить изолированно — обычно в каком-нибудь ареале на самой окраине территории, которую занимали его предки; там ему предстоит или претерпеть перемены, или вымереть.
«Скачок» от одного вида к следующему, когда случается, то происходит быстро и резко. Новые пришельцы вдруг перестают откликаться на прежние брачные зовы. По сути, как только эти «изолирующие механизмы» обретают силу, виду уже не угрожает генетический «откат», утрата новых признаков, возврат к прошлому.
Иногда новый вид, окрепнув благодаря совершившимся переменам, может заново заселить прежние места обитания и вытеснить своих предшественников.
Процесс такого «перескакивания» в изоляцию назвали «аллопатрическим („иноземным“) видообразованием». Это явление и объясняет, отчего — при том, что биологи находят бесчисленные вариации внутри вида (касающиеся величины тела или пигментации), — никому никогда не удавалось найти промежуточную форму между ближайшим видами.
Поэтому поиски «истоков» человека могут оказаться погоней за химерой.
Обязательная изоляция, необходимая для «перескакивания», по-видимому, может с равным успехом существовать вдоль пути миграции — который в конечном счете, тоже является участком территории, только вытянутым в длинную непрерывную линию, как нить, которую спряли из руна.
Когда я размышлял об этом, меня вдруг поразило сходство между «аллопатрией» и аборигенскими мифами о сотворении мира: ведь в них каждый тотемный вид зарождается сам по себе, изолированно, в какой-то одной точке на карте, а затем разбредается по земле, опутывая ее линиями своих следов.
Все виды должны рано или поздно совершать «скачки», но одни «скачут» более охотно, чем другие. Элизабет Врба показала мне схемы, на которых вычертила «родословную» двух сестринских кладов антилоп — Alcephalini и Aepycerotini; оба вида восходят к одному общему предку, жившему в эпоху миоцена.
Alcephalini — семейство, к которому относятся и бубалы, и антилопы гну, имеют «специализированные» зубы и желудки, приспособленные к питанию в условиях засухи; за последние шесть с половиной миллионов лет внутри него быстро возникло около сорока видов. А импала, или черно-пятая антилопа, представитель семейства Aepycerotini, будучи универсалом, способным благополучно существовать в любых климатических условиях, осталась неизменной с глубокой древности до сего дня.
Эволюционные изменения, сказала Элизабет Врба, некогда восхвалялись как признак успеха. Теперь-то мы знаем: самые успешные виды — это те, что существуют долго.
По-настоящему важное известие — это то, что мы происходим от весьма устойчивой линии предков.
Предки человека были «универсалами» — неунывающими и находчивыми существами, которые за тот же период времени, что и импалы, по-видимому, сумели выкарабкаться из множества щекотливых ситуаций, при этом умудрившись всякий раз не совершать нового видообразования. Из этого следует, что, когда в рядах гоминидов наблюдались-таки важные структурные изменения, их причиной должно было послужить некое мощное давление извне. Кроме того, нашим предкам понадобилась куда более стойкая, несгибаемая инстинктивная и моральная, выдержка, чем мы ранее могли предположить.
С тех пор как окончилась эпоха миоцена, на самом деле произошло только два таких крупных «скачка вперед», и разделял их промежуток приблизительно в четыре миллиона лет; первый связан с появлением австралопитека, второй — с появлением человека:
1. Изменение строения таза и ступни: вместо форм, присущих лесным обезьянам, передвигавшимся с помощью рук, появляются формы, характерные для существа, передвигающегося на ногах по равнине; из четвероногого получается двуногое; руки, раньше служившие средством перемещения, освобождаются для других занятий.
2. Быстрое увеличение мозга.
Оба «скачка», как выяснилось, совпали по времени с внезапными сдвигами в климате, который сделался 1) более холодным и 2) более засушливым.
Около десяти миллионов лет назад наш гипотетический предок, обезьяна эпохи миоцена, обитал в дождевых лесах с исполинскими деревьями, которые в ту пору покрывали почти всю Африку.
Подобно шимпанзе и горилле, он, вероятно, ночевал каждый раз на новом месте, однако ограничивал свои блуждания хорошо знакомой территорией площадью в несколько квадратных километров, где ему ничто не угрожало, где всегда было вдоволь пищи, где дождь стекал ручейками по стволам деревьев, а потом на листья падал солнечный свет; и где он мог укрыться в безопасности лесного ложа от «ужасов».
(В окрестностях озера Тернефин в Чаде я видел ископаемый череп гиениды эпохи миоцена: это была зверюга величиной с быка, с челюстями, способными отгрызть ногу слону.)
Однако на закате миоцена деревья начали уменьшаться в размерах. По еще невыясненным причинам Средиземное море вобрало в себя около 6 % мировой океанической соли. Из-за снижения солености моря вокруг Антарктиды начали покрываться льдами. Ледниковый покров удвоился. Уровень моря упал; и Средиземное море, отрезанное от океана мостом суши на месте Гибралтара, превратилось в одну обширную испаряющуюся соляную яму.
В Африке дождевые леса сошли на нет, сохранившись лишь на небольших участках (в настоящее время там живут древесные обезьяны), а между тем в восточной части континента растительность превратилась в «саванную мозаику»: на открытой равнине росли деревья и трава, влажные сезоны чередовались с засушливыми, изобилие — со скудостью, на смену половодью приходили высохшие озера с растрескавшимся дном. Это и была «родина» австралопитека.
Это было животное, которое ходило на задних лапах и, возможно, переносило грузы: прямохождение с характерным для него развитием дельтовидной мышцы, по-видимому, было обусловлено переноской тяжестей — например, детенышей и пищи, — с одного места на другое. Однако широкие плечи, длинные руки и в малой степени цепкие пальцы ног наводят на мысль, что это существо, по крайней мере пребывая на «архаической» ступени, еще отчасти жило или находило укрытие на деревьях.
В 1830-х годах Вильгельм фон Гумбольдт, отец современного языкознания, высказал догадку, что человек стал ходить на двух ногах из-за возникновения речи, чтобы «не бубнить в землю и не заглушать голоса».
Однако четыре миллиона лет прямохождения не оказали какого-либо воздействия на развитие речи.
Тем не менее «грацильные» и «массивные» австралопитеки скорее всего обладали способностью выделывать простые орудия — из кости и даже камня. Характер изнашивания на этих орудиях, видимый под микроскопом, наводит на предположение, что их использовали не для убийства или разделки туш, а для выкапывания луковиц и корней растений. Вероятно, австралопитек ловил молодую газель, если та оказывалась на его пути и ей не удавалось удрать. Может быть даже, он и систематически охотился, как это делают шимпанзе. Но все равно он по-прежнему оставался более или менее вегетарианцем.
Что касается первого человека, то он был всеяден. Уже строение зубов говорит о его всеядности. Судя по каменным орудиям, которые во множестве находят вокруг его стоянок, он, вероятно, расчленял туши животных и поедал их мясо. Однако вполне возможно, что он был скорее падальщиком, чем охотником. Его появление совпадает по времени со вторым климатическим переворотом.
Климатологи установили, что примерно 3,2–2,6 миллиона лет назад на Земле произошло резкое падение температуры, известное теперь как Первое Северное оледенение; тогда впервые образовался сплошной ледяной покров на Северном полюсе. В Африке результаты были катастрофичны.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987)"
Книги похожие на "Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Chatwin Bruce - Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987)"
Отзывы читателей о книге "Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987)", комментарии и мнения людей о произведении.