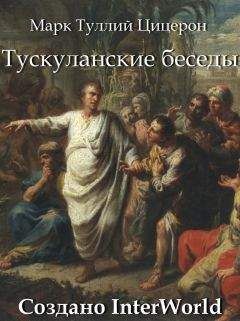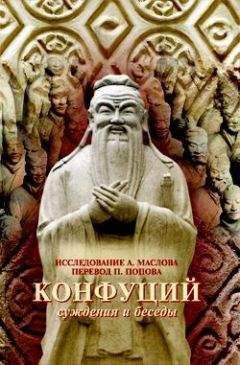Татьяна Горичева - От Эдипа к Нарциссу (беседы)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "От Эдипа к Нарциссу (беседы)"
Описание и краткое содержание "От Эдипа к Нарциссу (беседы)" читать бесплатно онлайн.
Книга основана на материалах бесед, происходивших в Санкт-Петербурге на протяжении 1999 и 2000 годов. Участники разговоров стремились размышлять над проблемами современной действительности постольку, поскольку эти проблемы обнаруживают под собой настоятельные философские вопросы. При этом авторы избрали жанр свободной беседы как наиболее аутентичный, на их взгляд, способ философствования, который не вполне оправданно оттеснен современной культурой текста на задний план.
Отмечу еще один момент. Это верно, что другой обнаруживает бесконечный провал феноменологического проекта. Когда Бердяев говорил, что последняя философия должна быть обязательно имманентной, а любая трансцендентная философия — лишь предпоследней, то он отказывался признавать провал всех философских проектов от Гегеля до Гуссерля. Философия же никогда не откажется от феноменологии, от искусства ближайших данностей. С помощью техники отслеживания этих ближайших данностей мы можем сколько угодно говорить о структура восприятия, структурах априорного знания, однако рано или поздно обнаружится пропасть. Эта пропасть связана с другим сознанием. Мы все высказали, и вдруг слышим: «Ты говоришь, и слова твои как кимвал бряцающий и водопад шумящий». А ведь изнутри аргументы казались неотразимыми, слова — исполненными участия и силы. С какой настойчивостью я ни претендовал на роль абсолютного дух или трансцендентального субъекта, но без странного персонажа, который скажет «Ты говоришь!», все мои прекрасные имманентные построения ничего не стоят. Поэтому последняя философия должна быть трансцендентной, она замрет у края пропасти, над которой нет никакого мостика. Тот же Гуссерль вводит Lebenswelt явочным порядком. Каким бы он ни был сторонником постепенного отслеживания ближайших данностей, все равно в конечном счете он заявляет: «А вот есть еще жизненный мир, мир других». Хайдеггер поступает честнее — он сразу вводит неустранимые экзистенциалы, которые никаким имманентным дискурсом друг из друга не выводимы. Другой оказывается в этом случае пресловутой вещью-в-себе, которую мы не знаем и не можем знать, но сам факт ее минус-присутствия, выражаясь по-структуралистски, совершенно необходим. Без смутного ощущения тихого ужаса все наши речи будут бессмысленны — без этого странного, непонятного, зачастую враждебного существа, которому мы пытаемся сострадать, любить его, но никогда не преодолеваем разорвавшую нас пропасть. Тем не менее, страдание учреждает дистанцию по отношению к собственному «я», по крайней мере если речь идет о страдании, эквивалентом которого является физическая боль. Здесь техника элементарной интроспекции позволяет провести даже количественный водораздел: вот человек прищемил палец дверью, он дует на палец, баюкает его, жалеет. Но нестерпимая зубная боль уже вызывает ощущение чужеродности больного органа, как и вообще всякая длительная, неотпускающая боль. Однако едва ли этот болевой акт самоотчуждения способен прояснить отношение к другому.
Д. О : Я попробую вернуться к феноменологии другого, поскольку сейчас мне это кажется уместным. Очевидно, что по жизни нас окружает множество других. Большинство из них совершенно не выделяются нами из плотной слипшейся массы, лишены обращенного к нам лица и устремленных к нам глаз. В этом смысле все они — то самое хайдеггеровское das Man, удельная масса человеческого рода, до которой нам нет никакого дела. Однако среди них, бесспорно, есть и такие, кто нам интересен и чей взгляд мы время от времени ловим на себе, не пропуская его мимо. Если первые — это чаще всего функции нашего неудобства, как заметил Александр, они плохо дифференцируются даже по полу, представляя собой некий средний род, некую безликость, что прекрасно показано в немецком слове, то вторые суть те, кто нам интересен и кем мы хотя бы отчасти захвачены. Казалось бы, если и дальше продолжить выделение лица из обезличенного среднего рода и в какой-то момент гипостазировать его как лик, то здесь другой нам и откроется, причем не где-то на той стороне, как вещь-в-себе, а прямо напротив нас, как близкий нам, как собеседник. Приблизительно так, как мы сейчас сидим за этим столом друг напротив (но не против) друга и являемся собеседниками. Я рискну утверждать, что именно так и есть, но возникает вопрос, почему это трудно помыслить и где на этом пути поскользнулся феноменологический проект интерсубъективности? Полагаю, имеется такое место. Я бы обозначил его фразой Сартра из «Бытия и ничто», хотя то же самое говорил Гуссерль: для нас дело идет о том, чтобы придать своему бытию возможность вобрать в себя точку зрения другого. Спрашивается: а зачем нужно вбирать в себя точку зрения другого? И кто явится нашему взору, если нам это удастся? Видимо, призрачное обезоруженное существо, признавая которое мы ничем не рискуем. Сартр предлагает установить что-то вроде капкана на другого. Когда другой в него попадает, он лишается своего опасного жала. Мы немного по-разному с Александром смотрим на проблему другого. Я думаю, весь ужас в том, что пропасть с другим удается преодолеть нехитрым, в общем-то, жестом, вселяющим в нас иллюзию, будто другой — во всем такой же, как я, хотя это не так. Но почему мы охотно пользуемся подобным капканом, чем мы рискуем, если заранее не обезоружим другого перед встречей с ним? Быть может, мы страшимся гибели грез, в коих покоится наша наивная убежденность в самих себе и в собственных силах.
Да, другой представляет собой какую-то угрозу. Поэтому нейтрализация другого — это чистый инстинкт, а не проблема рефлексии. Нападай, пока не напали на тебя. Очень трудно отказаться от подобной манеры действовать, или хотя бы отрефлектировать ее. Во всяком случае, феноменология этого сделать не сумела, оказавшись несостоятельной даже в сравнении с психоанализом. Зато в постановке проблемы другого тем же Бахтиным, Бубером или Левинасом было нечто в высшей степени благородное. Это уже не инстинкт, пусть и прикрытый рафинированной философией. Ведь очень логично, что Хайдеггер оказался глух ко всем ужасам нацизма, к страданиям миллионов людей. Спасибо феноменологии, которой Хайдеггер оказался самым последовательным сторонником, по крайней мере в этом смысле. От другого исходит смутная угроза, которую можно расшифровать как первичное желание меня убить. Я памятую не только о первичном желании другого, но и о моем желании, направленном на него. Это желание коренится в опыте конечности, в знании того, что человек смертен. Следует вспомнить фрейдовское понятие смещения, Verschiebung. В природе человека заложены влечения к смерти, Todestriebe, но я ведь не умираю в сей же час, я знаю, что моя смерть до поры до времени отложена. Поэтому энергетический запас, заложенный в инстинкте смерти, безостановочно смещается вовне, экстравертируется, превращаясь в распыленный по рыхлому телу социума заряд человеческой деструктивности. Мы начинаем догадываться, что другой не просто нейтрально сообщает мне о моей смерти, он хочет моей смерти, добивается ее всеми силами. Я пытаюсь представить своего рода психоанализ заповеди «не убий». Понятно, что она обращена не к каким-то преступникам или варварам. Она обращена к каждому. Каждый потенциально является убийцей. Не потому, что плох по природе или имел дурное воспитание, а потому, что смертен. Культура предоставляет тысячи способов сублимировать или вытеснить инстинкт смерти, развернутый вовне, но все они не являются окончательными возможностями избавиться от ужаса перед подлинно другим Они лишь приглушают это ужас и вырабатывают механизмы, как другого избежать. И все же другой совершенно необходим, сколь бы рискованной ни казалась встреча с ним. Я целиком согласен с Александром, что в противном случае у нас просто не достанет мерности, чтобы быть. Приблизительно о том же говорил и Бахтин, утверждая, что человек — это негативная инстанция и вместилище зла. Согласитесь, что если, как полагал Сартр, «я» ограничится принятием точки зрения другого, то это станет приумножением зла и бесконечным разбуханием негативной инстанции. Какая разница, идет ли речь о моем «я» или о «я» другого? В этом поле мы встречаем друг друга только как враг врага, а принятие точки зрения другого — лишь тактическая уловка. Это будет ситуацией, когда либо я смотрю на себя со стороны, либо другой постоянно ощущает на себе мой взгляд. И первое, и второе в равной степени неприятно. Однако в глубине души мы, наверное, чувствуем, что вряд ли можно поставить другого под контроль подобными мерами. Пропасть в самом деле всегда остается, и преодолеть ее со стороны «я» невозможно, хотя не исключено, что ее можно преодолеть со стороны другого. По крайней мере, именно так полагал Бахтин, и мне кажется, что это не лишено глубокого смысла. Ибо само «я» есть отклик на зов другого, который оно чаще всего склонно не замечать, затыкая уши и закрывая глаза, но, в конечном счете, ему ничего не остается, кроме как признать, что это оно предстоит Богу, мирозданию, другому, а не наоборот. Не ему принадлежит право первого слова, и в этом, возможно, все дело. Соблазн избегнуть другого очень сильный, но тогда не найдется критерия не только для подлинности человеческого присутствия, но и для всего мира вещей. Феноменологический проект провалился в том, что касается интерсубъективности, но в лице Хайдеггера все же отыскал потаенную тропинку к бытию, которому соразмерно человеческое присутствие, если только оно способно «das Geläut der Stille hören», «слышать перезвон тишины». Или, как говорят даосы, слышать «свирель земли». Другой приходит, когда мир утрачивает основание в субъекте, окружившем себя непроницаемой стеной.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От Эдипа к Нарциссу (беседы)"
Книги похожие на "От Эдипа к Нарциссу (беседы)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Татьяна Горичева - От Эдипа к Нарциссу (беседы)"
Отзывы читателей о книге "От Эдипа к Нарциссу (беседы)", комментарии и мнения людей о произведении.