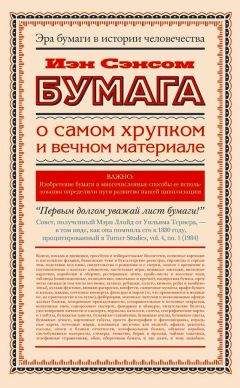Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Описание и краткое содержание "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать бесплатно онлайн.
Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего». Характерно, что модель «незамеченного поколения», возникшая в условиях институционального кризиса, но высокого статуса национальной литературы, активно используется в 90-е и 2000-е для описания современных сюжетов.
Сравнив этот текст, скажем, с написанным в России несколькими годами позже известным стихотворением Ахматовой «Творчество» из цикла «Тайны ремесла»:
Бывает так: какая-то истома;
В ушах не замолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь[487], —
мы увидим, насколько может быть близка вполне традиционная символика поэтического всеведения (в русской литературной традиции она ассоциируется прежде всего с пушкинским «Пророком») к тому образу алкогольного, сновидческого, а в конечном счете — предсмертного всеведения, который приковывает внимание Иванова. Чтобы превратить риторику творчества в риторику умирания, потребовалось декларативно упразднить инстанцию читателя, но фактически оставить за ней функцию подглядывания, подслушивания и сопереживания («жалости», как сказал бы Борис Поплавский). Погружаясь в глубины и соприкасаясь с предельным, наши герои оставляют на поверхности преданного наблюдателя — идеального, понимающего адресата. Важно, что под опытом смерти здесь в первую очередь подразумевается опыт умирания — опыт балансирования между смертью и жизнью, попытка посмотреть на смерть глазами умирающего и глазами тех, кому предстоит жить дальше.
В поэтических текстах Поплавского подобная оптика, пожалуй, определяющая («<…> Все так же мир высок и прекрасен, / Ярок и предан своей судьбе. / Все так же напрасен подвиг, напрасен, / Все так же больно Тебе. <…> Птицы носятся над садом, / Тихо начал глаз рябить. / Ничего Тебе не надо — / Только все забыть»[488]). Весьма охотно она воспроизводится и другими литераторами, которые причислялись к «молодому поколению» и «парижской школе». К примеру, в стихотворении Владимира Смоленского:
Плывет луна в серебряном огне,
Плывет душа, качаясь в звездной пыли.
И далеко внизу — на самом дне —
Шумит толпа, гудят автомобили.
Земное утверждая бытие,
Ребенок плачет и стучит рабочий.
Плывет душа по волнам вечной ночи
В последнее пристанище свое.
На ледяной постели, у окна,
Спит человек, скрестив на сердце руки,
В его глазах, открытых смертной муке,
Бессмертие, усталость, тишина[489].
В прозе двойная оптика — желание в одно и то же время увидеть «себя со стороны» и «мир как он есть» — скрывается за популярными панорамами большого города (обычно позволяющими заглянуть в чужие окна), за многочисленными описаниями городской толпы, в которой осознает себя главный герой. При помощи таких освоенных в бальзаковском романе парижских ракурсов[490] авторы «Чисел» выделяют самые значимые моменты повествования — чаще всего начало или финал книги. Нередко суггестивные свойства панорам усиливаются падением дождя или снега. Парижские осадки, в изобилии заполняющие «молодую эмигрантскую поэзию», — «Тихо падает снег / На шляпы, трамваи, крыши / Тихо падает снег. / Все глуше, белее, тише»[491]; «Дождь летит у фонарей трамвая / Тонкою прозрачною стеной»[492] — перекочевывают на страницы романов: «Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел. <…> Он шел, как идет человек по снегу — величественно и однообразно. Он то опускайся, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще нет никаких свидетелей. <…> Казалось, он идет над всем миром, что все улицы и всех прохожих соединяет он своею серою солоноватою тканью»[493]; «Падал снег. Большими серыми хлопьями, — как подстреленные лебеди? — падал снег. Стелился мягко и густо на тротуары, на провода, на вывески, и рассказывала эта косо опускающаяся завеса о том — о том, что опять и опять наступает зима»[494]. Щемящее чувство, которое возникает при чтении этих мест, если не объяснимо, то во всяком случае предсказуемо — неприкаянный читатель вряд ли сможет отождествить себя с протагонистом, за которым вынужден подглядывать, но вполне способен занять позицию снега или дождя. Собственно это спокойное, мягкое движение, обволакивающее романный мир, и есть ожидаемая реакция идеального, всё понимающего, всё прощающего читателя — читателя, который появится несмотря ни на что, вне зависимости от тех или иных свойств литературного текста. Просто потому, что так заведено в природе — «послание в бутылке» должно быть распечатано.
О результатах такого обращения с читателем можно судить по тем исследовательским языкам, которые преобладают в разговоре о Борисе Поплавском (другие авторы «Чисел» гораздо реже привлекают внимание филологов и историков литературы). Читательский/исследовательский интерес к Поплавскому нередко наделен отчетливым оттенком маргинальности — как если бы маска «проклятого поэта», упорно примерявшаяся Поплавским, вновь оказалась непривычной и неожиданной, вопреки вековой литературной традиции. Поплавский неизменно оказывается на обочине литературы — то в качестве неумелого литератора, графомана[495], то в качестве философа и религиозного деятеля. Выясняется, что его литературные тексты практически невозможно идентифицировать. Их границы размыты: «В принципе и <…> романы, и дневники, и статьи, и бесконечные блистательные монологи (оставшиеся в пересказах современников <…>) — представляют одно целое»[496]. Дефиниции соотносительны: Поплавский назывался и «русским Рембо», и «русским сюрреалистом», сравнивался и с Джойсом, и с Прустом. Поиск интертекстуальных связей здесь настолько результативен, что Поплавский в конечном счете оказывается зеркалом «модернизма», воплощением едва ли не всех процессов, которые происходили в литературе с конца XIX века до 1930-х годов включительно[497]. Все эти распространенные подходы объединяет одна установка — процедура интерпретации, поиска новых смыслов по отношению к литературным текстам Поплавского кажется избыточной. Эти тексты непонятно зачем, непонятно как, непонятно с какой точки зрения интерпретировать: вопросы об их задачах и мотивациях, о регистрах, воздействующих на читателя, пожалуй, наименее востребованы, а если ставятся, то с целью разоблачения «лже-дискурса», который позволяет «субъекту завлечь адресата внутрь текста, превратив его таким образом из собственно адресата общей коммуникации в объект своих личных манипуляций»[498].
Заметим — и авторы «Чисел», и Набоков подвергают идентичность своего читателя серьезному испытанию. В одном случае читатель не знает, что ему делать с текстом, в другом — наоборот, знает слишком хорошо и вынужден следовать скрытым указаниям автора. В обоих случаях конструируется образ идеального — «понимающего» или «проницательного» — адресата, а значит, подчеркивается особая ценность процедур прочтения и интерпретации. В то же время эти процедуры обозначаются как сложные, сопряженные с препятствиями и в конечном счете подавляются: либо через установку на тотальный контроль за возможными вариантами прочтения текста, либо через демонстративную закрытость, недоступность сообщения — текст помечается как непроницаемый, обращенный к читателю исключительно краями и поверхностями. Так или иначе основной целью всех этих манипуляций будет авторское присутствие, пребывание в тексте — представления о мемориальных свойствах литературы здесь лишаются модуса условности, наши герои не просто воздвигают себе нерукотворный памятник, но мумифицируют разнообразные элементы образа «я», оставляя в тексте следы реального имени, реальной судьбы, реального опыта. Ситуация самопредставления и самоконструирования оказывается не условной, но скрытой, завуалированной.
Собственно говоря, возможность скрыть эту ситуацию, тем самым переводя ее в «литературный» режим, и предоставляют две различные стратегии: стратегия успеха, выбранная Набоковым, и стратегия демонстративной неудачи, привлекающая авторов «Чисел». Если набоковский адресат приобретает уверенность в своих силах, то авторы «Чисел» наделяют имплицитного читателя негативной идентичностью. Если Набоков постоянно стремится расширить аудиторию, отлаживая, впрочем, механизмы отбора, поиска «своего» читателя в общей массе «чужих», то авторы «Чисел» ориентируются на предельно узкое, предельно замкнутое сообщество, однако сохраняют надежду на неведомого, грядущего адресата. Иными словами, Набоков активно создает идеального читателя, в то время как для его оппонентов эта инстанция персонифицирует нереализованную потребность во внешней оценке, поощрении, признании. Здесь важно, что такая потребность в принципе не может быть реализована — ни отзывы критиков, ни относительная популярность «Чисел» в читающей эмигрантской среде не способны полностью ее удовлетворить, «молодые литераторы» все равно будут говорить о себе как о непризнанных. Аналогичным образом даже самый «проницательный» читатель никогда не убедится в том, что разгадал все загадки Набокова и понял причину его успеха. «Поражение» и «успех» в данном случае — значимые ресурсы непонимания, области, где автор может ощутить невыразимость собственного «я», а значит, если не победить, то во всяком случае компенсировать одну из основных фобий эмигрантского литературного сообщества: фобию «беседы с самим собой, взаперти».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Книги похожие на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Отзывы читателей о книге "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы", комментарии и мнения людей о произведении.