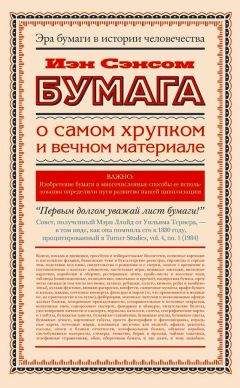Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Описание и краткое содержание "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать бесплатно онлайн.
Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего». Характерно, что модель «незамеченного поколения», возникшая в условиях институционального кризиса, но высокого статуса национальной литературы, активно используется в 90-е и 2000-е для описания современных сюжетов.
Таким образом, мы обнаружили два безусловно связанных между собой модуса литературного высказывания. Один из них получает одобрение критики и определяется как искренность, другой либо не замечается, либо существует на правах неудачи, в которой, однако, время от времени начинают подозревать сознательную насмешку. При этом неудача имеет отношение скорее не к «форме», а к «содержанию», к «темам», иными словами, регистрируется как смысловой сбой, смысловой сдвиг. Эта вилка отчасти соотносится с тем, что происходит во французском авангардном искусстве, с его исследованием пограничных зон литературности, вниманием к надреальному, во-первых, и тривиальному, во-вторых. Однако более четко выражены интересующие нас модусы в литературе советской. С одной стороны, на период становления советского государства приходится интерес к «литературе факта», расцвет «исповедальных» жанров[437], с другой — появляется литература, которая заявляет о себе как о «реальном искусстве», которая позднее будет описываться преимущественно при помощи категорий «бессмыслицы», «абсурда» и которую поэты с иным опытом литературной жизни («старшие современники») могли отождествлять с неумелым письмом (Ходасевич, как известно, тут был не одинок[438]). Обозначая разрыв между «обыденным языком» и «реальностью», испытывая на прочность не только пределы литературности, но и пределы смысла, вообще имея дело с предельными значениями, обэриуты концептуализируют те способы письма, которые в «молодой эмигрантской литературе» сохраняют статус не вполне дозволенных и недоосуществленных. Разумеется, мы сейчас не пытаемся анализировать литературу обэриутов и оперируем довольно общими схемами, но для наших целей этого достаточно — нам важно зафиксировать стремление к «реальной» литературе через поиск прямых, буквальных смыслов, который, в своих крайних формах, может распознаваться как бессмыслица.
Дело, конечно, не в мистических связях между метрополией и диаспорой, и даже не только в связях интертекстуальных — понятно, что литераторы, пишущие на русском языке, по обе стороны границы оказываются в ситуации распадения норм в том числе институциональных: инстанция адресата не прояснена, а соотношение между сферой приватного и сферой публичного не урегулировано. Применительно к советской России рубежа 1920–1930-х годов Мариэтта Чудакова описывает эту проблему как проблему «скрытого» и «открытого»: «неопределенность требований власти» ставит литераторов в тупик, поскольку «отсутствуют четкие представления о том, что должно быть выражено открыто, а что следует скрывать»[439]. В прошлой главе мы видели, как неустойчивость границ между приватным и публичным связана с прямо противоположным культурным переживанием — переживанием «одиночества и свободы». Иными словами, при всех разительных, чаще полярных различиях между литературной жизнью метрополии и диаспоры, общей реакцией на социальную катастрофу, ситуацию перехода и институциональный сбой становится маска искреннего литератора, нередко с ясно различимыми чертами нелепости, ущербности, юродства, — маска банальности и непредсказуемости, позволяющая нарушать шаткие границы между приватным и публичным.
В замкнутом эмигрантском сообществе, предъявлявшем к своей «молодой литературе» завышенные и заниженные требования одновременно, маска юродивого литератора не получает концептуального обоснования, однако легитимируется через образ «последнего из первых» и «первого из последних» («Последние и первые» — так, явно имитируя «Униженных и оскорбленных», назывался ранний роман Нины Берберовой). Мы имеем в виду далеко не только статью о «бездарной гениальности», об «отрицательном» даре, который побуждает поэта нелепо говорить о высоком. Раздраженный оксюморон Ходасевича мог находить понимание у читателей постольку, поскольку для эмигрантской литературы и эссеистики вообще характерно постоянное акцентирование предельных — «высоких» и «низких» — значений.
Основной областью смешения высокого и низкого становится то, что современники в метрополии могли бы назвать «бытом»[440]: повседневность, частное, домашнее пространство. Основная операция, которая производится со значениями, — их одомашнивание (от «Пишу стихи при свете писсуара» до «Небо похоже на застиранное полотенце»[441]). Тут наши герои вдохновляются опытами Василия Розанова, полагая, что «только тот, кто у себя дома в рваном пиджаке принимает вечность и с ней имеет какие-то мелкие и жалостно-короткие дела, хорошо о ней пишет»[442]. Именно в этом смысле литература как социальная практика провозглашается лишним посредником между вечностью и поэтом, но как «частное письмо, посылаемое наудачу неведомым друзьям»[443] — приобретает повышенную, почти культовую ценность.
Позиция ремесленника, мастера, профессионала, противостоящая одомашненному и в то же время высокому образу письма, как известно, объединяет Ходасевича и Набокова. При этом, в отличие от Ходасевича, Набоков демонстративно предпочитает «сложность» «простоте», а «многозначность» или, точнее было бы сказать, «многозначительность» — ясности. Идее прямого, буквального высказывания Набоков противопоставляет многочисленные, всегда тщательно продуманные метафоры. Ирония умело растворена в тексте, однако при известной доле внимания ее можно распознать, следуя за авторскими подсказками. Дневниковые и эпистолярные модусы письма либо жестко определяются как нелитературные (герой «Подвига» настолько далек от литературы, что не пишет «ничего, кроме писем»), либо разоблачаются как ущербная литература, недолитература (таков «худосочный дневник», в который в конце концов превращается повествование одержимого страстью к литературе карикатурного персонажа «Отчаяния», или напоминающие о Кафке письма, которые адресует немецкому другу и одновременно потомкам не менее карикатурный персонаж «Соглядатая»), Модус автобиографии, безусловно интересующий Сирина и чрезвычайно притягивающий Набокову в данном случае абсолютно лишен «исповедальных» интонаций. Мы еще вернемся к этой теме, пока же отметим, что личная история здесь конструируется с другой целью и другими средствами, во всяком случае, не выдается за правдивый, искренний рассказ о себе[444].
Все это, однако, преподносится как частный протест против публичной, коллективной литературной жизни. Задавшись вопросом, из чего сделана литература Набокова, мы вынуждены будем признать особое значение каламбуров, шарад, литературных игр — того материала, который Тынянов мог бы отнести, наравне с личными дневниками и письмами, к «фактам литературного быта», к «бытовым» ресурсам литературы[445]. Позитивный образ литературы вновь оказывается камерным, домашним, «своим»; литература и на сей раз отстаивается как приватное пространство, где писатель вправе наконец остаться наедине с читателем.
Итак, ценностно окрашенное отношение к литературе может открыто декларироваться (в случае Набокова) или усиленно опровергаться (в случае авторов «Чисел»). Но в любом случае литературное высказывание нуждается в дополнительном оправдании, в дополнительной рамке и обязательно поддерживается апелляцией к окололитературным формам обращения со словами — будь то модусы личного дневника и частного письма, прочно экспроприированные французской и русской литературами, или модусы загадки, шарады, игры, более востребованные в литературе английской. Точно так же маска писателя, поэта, пусть даже и «проклятого», обычно не удовлетворяет наших героев и дополняется маской теолога (Поплавский), медика (Яновский), шахматиста, а позднее — энтомолога (Сирин-Набоков). Эти маски, в самом деле имеющие отношение к образу жизни «молодых литераторов» или позаимствованные из их наиболее известных произведений (как это произошло с «Защитой Лужина»), указывают именно на особый «метод» письма, с их помощью описываются наиболее характерные для того или иного автора «приемы»: Поплавский исследует мистические возможности слова, Яновский цинично препарирует человеческую сущность, проза Набокова напоминает шахматную задачу или коллекцию умерщвленных бабочек и т. д. Такие внелитературные или окололитературные метафоры сообщают о том, что литературная конвенция, некая, условно говоря, Большая Литература в представлении наших героев тесно связана с нормативными определениями реальности, возможно, вообще олицетворяет устойчивую реальность. Для того чтобы проявить себя в этой невидимой, но безусловной реальности, то есть перевести ее в индивидуальный, приватный модус, согласовать с актуальными образами повседневности, но избежать вопроса о границах и рамках литературы, необходимы дополнительные маркеры процесса письма. Очевидно, именно с этим связано набоковское стремление усилить, сделать более заметными знаки литературности или, наоборот, желание нивелировать их, вытеснить, подменить, одолевающее авторов «Чисел».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Книги похожие на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Отзывы читателей о книге "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы", комментарии и мнения людей о произведении.