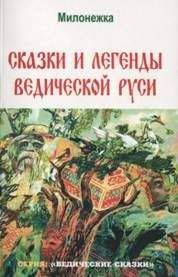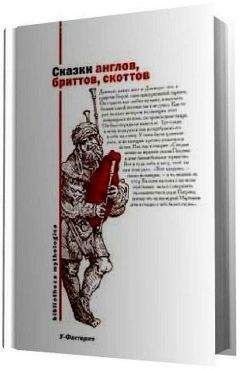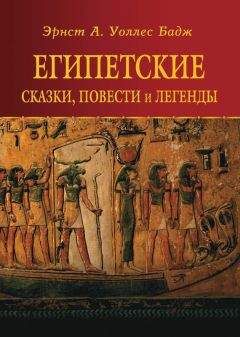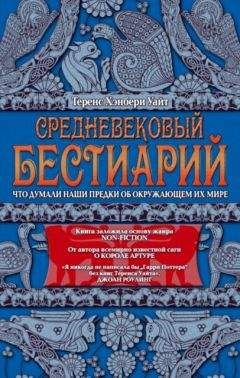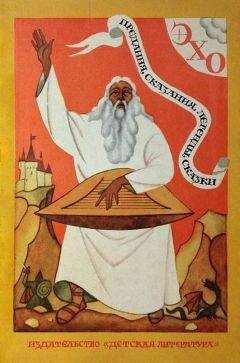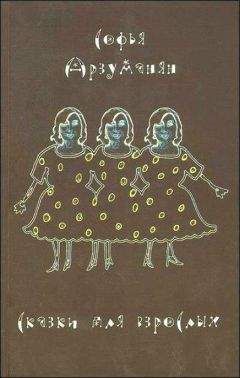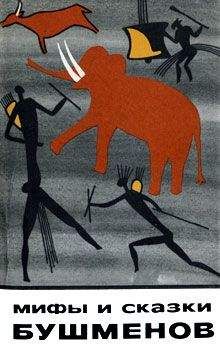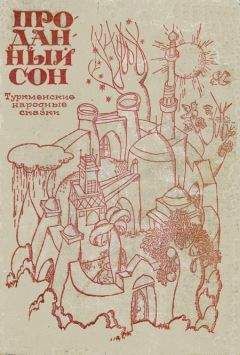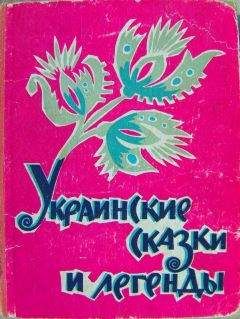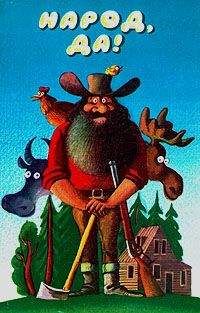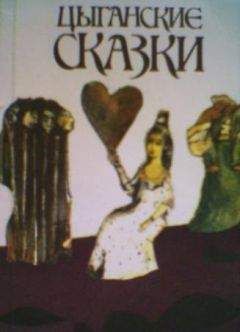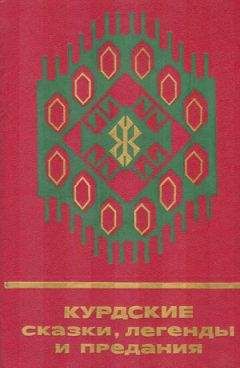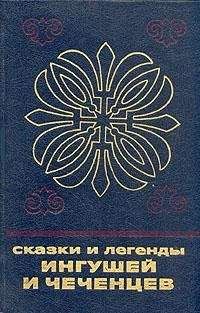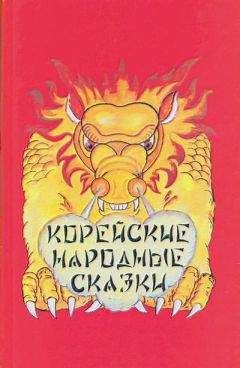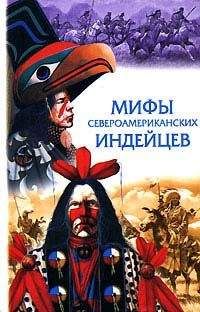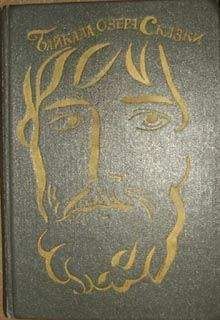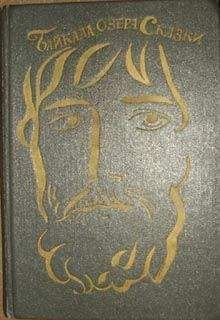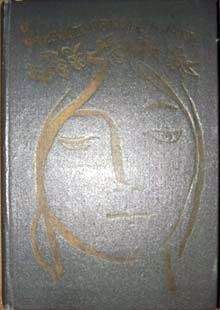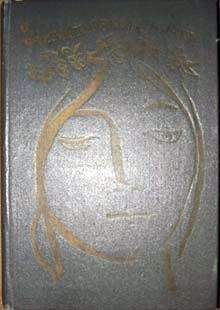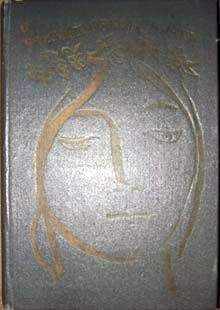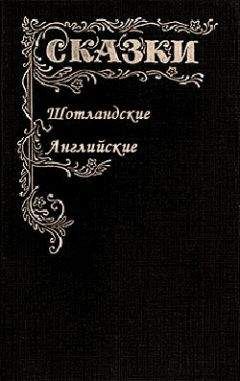Эрика Таубе - Сказки и предания алтайских тувинцев
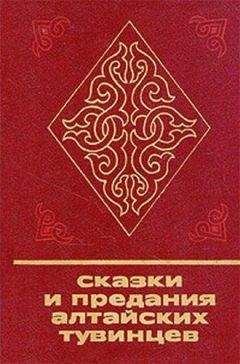
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сказки и предания алтайских тувинцев"
Описание и краткое содержание "Сказки и предания алтайских тувинцев" читать бесплатно онлайн.
Книга представляет собой публикацию сказок и преданий тувинцев, живущих на Алтае, — одной из народностей МНР, собранных известной исследовательницей из ГДР Э. Таубе. Часть из них была издана ею в ГДР, другие переведены по ее рукописи. Авторизованный перевод выполнен Б. Е. Чистовой. Сказки сопровождаются вступительной статьей и примечаниями.
Рассчитана на взрослого читателя.
42. О ленивом старике
(Тувинское название отсутствует)
Записано от исполнительницы Джумук 16 июля 1982 г. у впадения р. Джылан- ныг в р. Кобдо.
Ср. АТ и АА 1641; ср. TTV 311; ММТ 119, ср. 120; TCV 190; Liungman 1640.
Распространение: tvb.: (1) ТНС II, с. 42; (2) ТНС III, с. 86 (нем.: Taube, 1978, № 57); (3) ТТ III, с. 118; каз.: (4) Малюга, с. 82 (= KasVM, с. 154); узб.: (5) Ше- вердин, с.203; монг.: (6) Потанин. Окраина, с. 539; (7) МонгААЗД, с. 184, № 56; (8) МонгАУ, с. 81; (9) ААЗ, с. 42; (10) МонгС 1962, с. 35; (11, 12) МонгС 1966, с. 41, 131; (13) На1ёп, II, с. 72, № 39; (14) Потанин. Очерки, IV, с. 539, № 161 (дархат.); бурятск.: (15) Баранникова, с. 170; калм.: (16) Ramstedt, с. 56, № 13; ти- бетск.: (17, 18) с. 34, № 56, с. 35, № 57 (ср. также: с. 33, № 55); (19, 20) Tib. М. II, с. 211, 223; (21, 22, 23) Tib. М. IV, с. 84, 87, 149; (24, 25) Tib. М. I, с. 238, 243.
Рассказ Джумук состоял из несвязных отрывков, которые мне пришлось привести в порядок. По ходу рассказа она сама неоднократно поправляла себя или выражала неуверенность в последовательности мотивов. Сказку эту она слышала в детстве от отца, а позже не слыхала и никогда не пересказывала и постепенно забыла ее. И больше нам никто не рассказал и не упомянул этой сказки. Этот факт, а также сходство с джатакой № 465 и относительно редкое распространение среди тюркских народов и, напротив, множество монгольских и тибетских фольклорных вариантов говорят о том, что здесь была перенята монгольско-тибетская традиция, возможно восходящая к письменному образцу.
Предсказание будущего по свиной голове, на что часто намекает имя главного героя в монгольских и тибетских вариантах, и то, на чем оно основано [ср. среди прочих вар. (13 и 16)],— вообще-то нетипичный объект для скотоводов-кочевников, — в № 42 не играет никакой роли. Здесь герой пользуется затвердевшей мучной похлебкой, чтобы, постукивая по ней, якобы предсказывать будущее [правда, в вар.
(2) это все-таки овечья голова]. Совершенно необоснованное и неожиданное возникновение имени Гагай 1-ылгээчи (монг. гахай — „свинья“, ср. с тув. и калм. tolgeci — „предсказатель-) также свидетельствует о заимствовании, предположительно через монголов, причем кое-что оказалось непонятным и поэтому было переосмыслено. Так, например, в нашем варианте неясно, откуда старику известны имена конокрадов. В тувинском варианте (2) они сами называют ему их, испуганные его великой славой всезнающего предсказателя [ср. также и тибетский вариант (21)]. Это тоже очень похоже на вторичное толкование. Более правдоподобна такая версия: воры случайно проходят мимо предсказателя, который, возможно, ударяя по затвердевшей похлебке, произносит что-то вроде „первый, второй…“, принимают эти слова на свой счет и считают себя разоблаченными (ср. АТ 1641 И); неверное толкование случайно услышанных слов встречается в этой связи и в других вариантах из Центральной Азии [вар. (4, 16, 19 и др.)]; например, в варианте (16) старик поглаживает живот, обращая к нему слова „твердый“ и „мягкий“, что как раз оказывается именами проходящих мимо юрты воров.
Предыстория вопросов и ответов, из которых старик будто бы делает заключение о демонической сущности ханши, быка и собаки (они шли красивее всех других), станет яснее из западно-тибетских вариантов (20, 23), записанных от скотоводов-кочевников. Здесь царю вдруг встречается красивая девушка, ведущая быка, и он полу чает се в жены себе и своим братьям, после чего все братья, начиная с младшего, друг за другом заболевают и умирают. Когда очередь доходит до него самого, он призывает ясновидца со свиной головой.
Комплекс мотивов, содержащийся в отдельных вариантах, варьирует. Вводный мотив о лентяе, которого его жена хитростью (прятанием чего-нибудь съедобного вблизи юрты) побуждает вести себя по мужски и отправиться в путь, чтобы сделать что-нибудь для поддержания семьи, присутствует всегда, несмотря на какие-то отклонения [например, вариант (4) начинается мотивом о двух богатых и их бедном брате, которого они с целью погубить его выдают за предсказателя). Примыкающие к этому сцены (попытка поймать в норе лису или зайца вплоть до потери шапки, собаки, лошади с оружием, а иногда и с одеждой) носят довольно стереотипный характер. К основному составу следующих друг за другом мотивов, имеющихся и в нашем алтайско-тувинском варианте, относятся: нахождение украшения [в большинстве тибетских вариантов это бирюза — вместилище души, нечто сходное видим и у монголов, например, в варианте (13), где потеря кольца непосредственно связывается с заболеванием], нахождение лошадей, исцеление хана, демоническая природа ханши, а также быка (иногда и собаки) хана и возвращение старика с богатыми подарками; калмыцкий вариант с мотивом недовольства жены перекликается со „Сказкой о рыбаке и его жене“ (КНМ 19) и русской „Сказкой о рыбаке и рыбке“, но, конечно, без свойственного волшебной сказке исчезновения всего обретенного в конце. Характерный для восточнославянской сказки мотив „отгадай, что у царя в улаке“ (ср. АА 1641) имеется и у казахов [вар. (4)]
Излечение ханской дочери [вар. (1) и др.] напоминает тувинскую волшебную сказку сходного содержания (ТТ III, с. 26; ТНС 1971, с. 139), которую можно встретить и у других тюркских народов, и у монголов (ср.: Taube, 1978, примеч. к № 30). Важный здесь мотив понимания языка животных как предпосылки. исцеления ханской дочери встречается в том же контексте и у тибетцев [вар. (25)].
Во многих вариантах [например, (2, 6)] под конец старика призывают к помощи против войска враждебного хана, и, несмотря на обуявший его страх, ему и здесь удается благодаря случаю обратить врага в бегство (ср. тип 1154, TTV 365). Это нечаянное изгнание вражеского войска, напуганного падением старика с дерева, напоминает нам и об одном эпизоде в 19-м рассказе Siddhi-kiir Uiilg. Mongofische Marchensammlung, с. 164 и сл.; ср. BP I 162).
Сказка № 42 отличается от других вариантов отсутствием типичного для многих вариантов социально-критического, а также антиламаистского или антишаманист- ского аспекта [ламы и шаманы, как правило, не могут помочь; в вар. (7) герой — юноша, проживший три года в монастыре и ничему не научившийся!]. Но вместе с тем отступает и все, что напоминало бы бытовую сказку и шнанкообразный характер этого типа, который задан еще вначале. Демонические силы, окружающие хана, довольно могучи, и от этого варианта создается впечатление, что рассказчица видит в старике всё-таки нечто особенное: потребованное от него (излечение ханши и разоблачение демонов) он совершает и в силу каких-то особых, по крайней мере умственных способностей. Может быть, причина этого вообще в древнем характере фольклора и культуры алтайских тувинцев, которому еще чужда ирония этой сказки (см. Тредисловйе)
43. Хитрая проделка нищих монахов (Баиарны лалшларнынг джэли)
Записано Ч. Галсансм, помнившим сказку с детства, 30 августа 1967 г. в Цэнгэле.
Нем.: Taube, 1977, с. 109.
Ср. ММТ 409 и далее.
Очень слабое сходство с двумя типами сказок, бытующих у монголов и калмыков. Общее с ММТ 409 начало: прожорливость нищих монахов — то же, что лежит в основе родственного типа сказок о голодном священнике (попе) (АТ и ВВС 1775).
На мотиве вступивших в сговор монахов, понимающих друг друга по намеку, как и в калмыцкой сказке (ММТ 410), основан юмор тувинского варианта, который кончается тем, что хитрость их идет обоим на пользу, в то время как в калмыцкой сказке в соответствии с нормами шванков о священниках и попах нищие монахи терпят поражение.
44. О мальчике ростом с коленную чашечку (Тувинское название отсутствует)
Записано от двенадцатилетнего ученика Бадарнынг Пэпизэна 3 июля 1969 г. в Дюктегтиге.
Нем.: Taube, 1978, с. 239, № 45.
Ср. АТ 700; ММТ 376 и далее; TTV 288; КНМ 45; BP I 389; Liungman 700.
Распространение: тув.: (1) ТНС II, с. 51; ср. также „Оскюс оол“, с. 47; алт.: (2) Танзаган, с. 111; кирг.:(3) КиргНС, с. 230; каз.: (4) Казиев, с. 60; туркм.: (5) Яр- ты-Гулок, с. 32; узо!: (6) Шевердин, И, с. 129; ср.: (7) Шевердин, I, с. 232; калм.: (8) Ramstedt, с. 69, № 14; монг.: (9) Потанин. Очерки, IV, с. 55Q, № 166 (дар- хат.?); (10) МонгААЗД, с. 180, N9 52; (11) ААЗ, с. 29. (12) МонгАУ, с. 152; (13) АУБ II, с. 14; (14) Владимирцов, с. 91; (15) Rintchen, с. 143; (16) МонгС 1966, с 122; (17) МонгС 1962, с. 96; тибетск.: (18) Tib. М. II, с. 253, (19) Tib. М. III, с. 72; (20) Tib. М. I, с. 247 (= Schuh, с. 22, N9 38).
Вариант Пэпизэна, несомненно, восходит к более длинной сказке, что видно и из приведенного текста. [У туркмен вокруг образа Ярты-Гулока образовался целый цикл сказок. В узбекском варианте (5) сначала было семь братьев, все величиной с ухо, от них хотят избавиться старые родители, младший спасается и становится их опорой.] В некоторых вариантах содержится мотив ягненка, подкладываемого спящей девушке (имитация рождения уродца). Пэпизэн упомянул такой эпизод в заключение своего рассказа, но не мог вспомнить его точно и связать с предыдущим. Тибетский вариант (20) начинается историей о зайце, часто встречающейся у тибетцев как вариант тувинской сказки о лисенке (ср. № 47–49, а также: Taube. Fuchsgeschichten).
Интересен также выбор предмета, избираемого разными народами для определения величины героя сказки. Алтайско-тувинский мальчик величиной с коленную чашечку аналогичен мальчикам величиной с пальчик (в тувинских, киргизских сказках), с ухо (в алтайских, узбекских), в полверблюжьего уха (в туркменской), с козий хвостик (в тувинской, монгольской), с горошину (в узбекской).“
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сказки и предания алтайских тувинцев"
Книги похожие на "Сказки и предания алтайских тувинцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эрика Таубе - Сказки и предания алтайских тувинцев"
Отзывы читателей о книге "Сказки и предания алтайских тувинцев", комментарии и мнения людей о произведении.