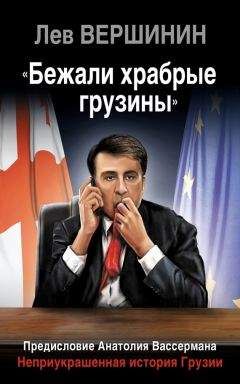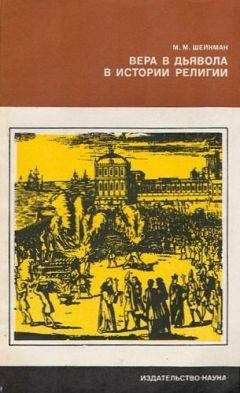Лев Вершинин - Ивановы годы. Иваново детство.
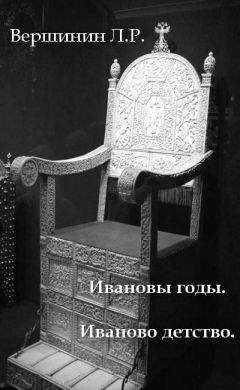
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Ивановы годы. Иваново детство."
Описание и краткое содержание "Ивановы годы. Иваново детство." читать бесплатно онлайн.
На своей странице в Живом Журнале (putnik1.livejournal.com) Лев Вершинин опубликовал несколько записей, объединенных в цикл "Ивановы годы", в которых рассказывается о временах правления Ивана Грозного, истории возникновения опричнины, гипотеза причин её возникновения, её роли в развитии государства и хода Ливонской войны.
По сути, главным врагом царя оказывалась не Вильно, а Москва. Не вся, конечно, но аристократическая — однозначно. Тем паче, что переплетение родственных связей, многократно перекрещенное свойство, дружбы и так далее предполагали, что вполне надежных людей среди «старомосковских» просто нет и потенциально в заговорах, нынешних или будущих, могут оказаться завязаны все. Или, по крайней мере, все, по–настоящему сильные. Такие роды, как недавно еще «худородные» Захарьины или Годуновы, конкурируя с княжатами, скорее всего, оказались бы на стороне престола, но их сил, влияния, да и военных возможностей для успеха при вероятной конфронтации, безусловно, не хватало. А необходимость, пока не поздно, наносить по княжатам удар была отчетлива необходима. И направление удара тоже подразумевалось само собой: разбить «обоймы», разорвать те самые связи «отчичей и дедичей» с их «отчинами и дединами», вырвать из традиционной почвы.
Иными словами, вопрос стоял об уничтожении основы основ, о ломке традиции раз и навсегда. Не ограничении в наследственных правах, как было сделано в 1562–м, но именно лишении аристократии главных ее прав, привилегий и, главное, возможностей, непоколебимо наследованных от предков. Учинить такое просто указом государя было невозможно: его бы просто сбросили. Провести подобное через Думу, тем более, даже предлагая взамен «отчин и дедин» более выгодные владения, — это сочли бы просто насмешкой, и опять-таки, сбросили бы, и никакие «новые люди», никакие Годуновы и Захарьины ничего бы не сумели сделать. Выбор был предельно прост: или делать вид, что все нормально, ограничиваясь точечными репрессиями и лавируя, — но такая политика надолго не годилась (напряжение в элитах было слишком велико), или идти ва–банк...
3
Сразу.
Всем, налетевшим соколятами поминать «Малую Землю« и «Возрождение«, опровергать события 1565 года событиями 1541 года и потреблять фамилию «Резун«. Дорогие мои, хорошие. Я таки понимаю, что вам что-то не нравится. Но я, в даном, по крайней мере, случае, не ученый, строящий гипотезы. Я просто человек, берущий общеизвестные факты и проверяющий их на оселке элементарной житейской логики. Так как сам понимаю. Без всяких идеологий и без всякой морали в стиле г–на Лунгина или, не приведи Боже, г–на Радзинского. И если какой-либо конкретный факт в моей трактовке Вам не по нраву, — гип–гип–ура. Опровергайте. Но только, чур, без ссылок на карамзиных–костомаровых, которые, как и мы с вами, не критерий истины, а логикой. Своей. Житейской. Без слюней и соплей по любому из возможных поводов.
Поняли?
Хорошо.
Едем дальше…
Картина общеизвестная: 3 декабря 1564 года Иван без всяких предупреждений покинул Москву, прихватив с собой обоз, семью и самых доверенных людей, уже с пути отправив в Белокаменную официальную грамоту о «сходе с престола» — Думе, а позже обращение к московским посадам, публично зачитанное ровно через месяц после отъезда.
Не стану злоупотреблять цитатами.
Вкратце же суть отречения заключалась в том, что царь
«гнев свой положил на бояр… и на казначеев и на дьяков и на детей боярских… за измены и убытки Государству… И опалу свою на них положил за то, что они «людям многие убытки делали и казну Государеву растащили: И земли себе его Государьские разоимали, и друзьям своим и родне земли (те) раздавали: И о Государе и о его Государстве и о всем Православном Христианстве не хотя радети, и от недругов от Крымского и от Литовского и от Немец не хотя Крестьянство обороняти, наипаче же Крестьянам насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, а за Православных Крестьян кровь проливать против бесермен и против Латын и Немец… не похотели; и в чем он, Государь, бояр своих и всех приказных людей, также служилых Князей и детей боярских похочет которых в их винах понаказати… и Архиепископы… сложася с боярами и дворянами… почали их покрывати; и Царь от великия жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое Государство и поехал куда Бог наставит». Однако же, обращаясь отдельно к Москве, Иван подчеркивал, чтобы посадские люди «себе никоторого сомнения не держали, гневу и опалы на них никоторыя нет».
То есть, впервые в истории, и не только России, царь, помазанный и венчанный, обращался напрямую к народу, прося его оказать поддержку или отказать в оной, — чтобы все было четко и ясно. И Москва откликнулась. Пока в Кремле аристократия совещалась, склоняясь к тому, чтобы утвердить отречение, вокруг Митрополичьего двора собралась колоссальная, очень заинтересованная толпа, настроенная настолько агрессивно, что боярам пришлось принять посадских представителей. Которые и сообщили, что играть своими судьбами в кулуарах не позволят. Добавив, что Думе не верят, а верят государю, присягу ему «не складают» и намерены умолять, чтобы «Государство не оставлял и их на расхищение волкам не давал, наипаче лее от рук сильных избавлял; а кто будет лиходеем и изменником, они за тех не стоят и сами тех потребят».
То есть, — иначе не объяснишь, — предлагали, ежели нужно, прямую помощь.
В сущности, ничего иного и ждать не приходилось. Прелести «думного правления» иванова детства Москва помнила слишком хорошо, и повторять не хотела. Но и «лучшие люди», со своей стороны, прекрасно помнили мятеж 1547 года, и сознавали, чем может кончиться для них озверение посадов. В связи с чем, разговоры об утверждении отречения как-то скисли, и в тот же день, 3 января, в Александровскую слободу направилась сперва делегация духовенства, затем лидеры Думы. А потом туда же двинулись и посланцы посада, причем, во всем социальном спектре: «купцы и многие черные люди… града Москвы». И все для того, чтобы от лица Земли и Города, юридически безупречно (решением Думы и с одобрения Церкви) просить Ивана вернуться и «править отныне же так, как ему, Государю, годно».
Это был абсолютный вотум доверия, дававший победителю любые полномочия. 2 февраля Иван, за месяц постаревший (по оценке очевидцев) историков) лет на двадцать, вернулся в Белокаменную и опубликовал знаменитый Указ об учреждении опричнины. То есть, отмене традиционных гарантий прав личности («что ему своих изменников, которые измены ему, Государю, делали и в чем ему, Государю, были непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки имати») и введении на определенной части Города и Земли режима, как сейчас говорят, чрезвычайного положения («учинити ему на своем Государьстве себе опричнину»).
Если проще, это означало, что:
(а) право определять измену, конфисковать имущество и карать вплоть до смертной казни отныне принадлежало царю, без необходимости консультироваться с Думой;
(б) создавался особый «государев удел», куда могут войти любые земли, угодные царю, и в рамках которого Дума не имеет никакой власти;
(в) для управления этим уделом была создана Опричная Дума, при формировании которой традиционные критерии не играли никакой роли;
(г) также учреждалось особое (опричное) войско, формируемое сверху донизу по усмотрению царя, но, вопреки устоявшемуся мнению, брали туда не только «худородных» выдвиженцев: аристократы, которым Иван доверял, тоже были вписаны в списки и получили командные должности;
(д) наконец, княжата и бояре, по каким-то параметрам в опричнине нежелательные, подлежали высылке из «отчин и дедин», правда, получая компенсацию, возможно, и не совсем адекватную (в отдаленных районах).
Точка.
В скобках. В чем–чем, а в чувстве юмора Ивану не отказать. Вполне обычный в русском праве того времени термин «опричь» (вдовий удел, пусть небогатый, зато защищенный от любого вмешательства и посягательства) он обернул очень красиво, влив в старые меха совсем иное вино.
И вот она, опричнина. Начиная с Карамзина, лютая страшилка для сменявших друг дружку поколений креативного класса. Дескать, террор, чтобы всех поставить на колени. Для историков же, как для кого. Многие считают мудрой реформой, позволившей России проскочить за несколько лет несколько десятилетий социальной эволюции. Другие, — таких тоже немало, — считают, что ничего особо мудрого нет, потому что (как показали дальнейшие события) многие старые кланы пережили трудное время и сумели позже взять реванш. Сам же Иван позже, уже после отмены ЧП, склонялся к тому, что иначе было нельзя. «А што есми учинил опришнину, — писал он в Завещании, — и то на воле детей моих, Ивана и Федора, как им прибыльнее, и чинят, а образец им учинил готов». То есть, если нужно, то нужно, но только когда нужно.
Давайте, попробуем понять. В конце концов, у нас есть важная фора: все уже многократно сказано до нас, так что мы можем оценивать аргументы с позиций самой элементарной житейской логики.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ивановы годы. Иваново детство."
Книги похожие на "Ивановы годы. Иваново детство." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Вершинин - Ивановы годы. Иваново детство."
Отзывы читателей о книге "Ивановы годы. Иваново детство.", комментарии и мнения людей о произведении.