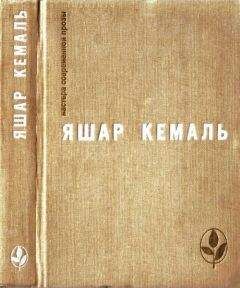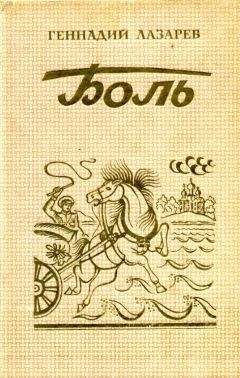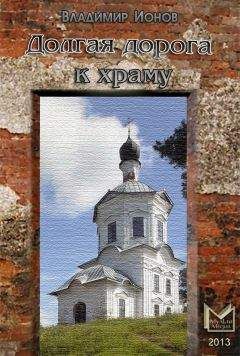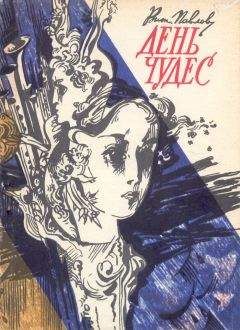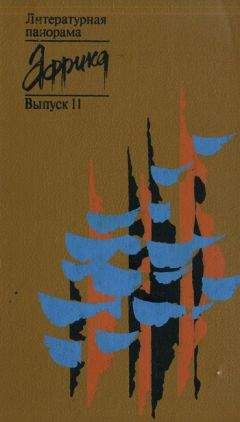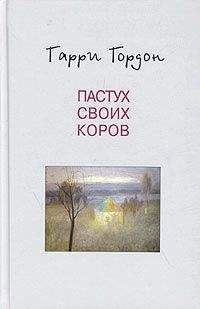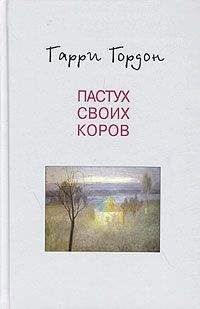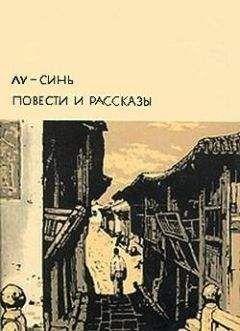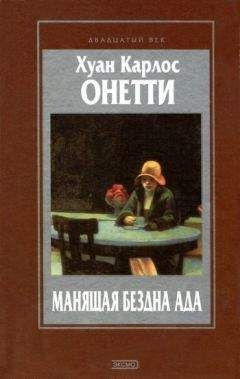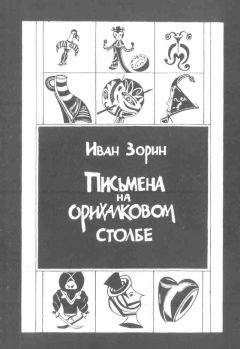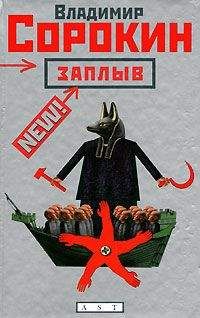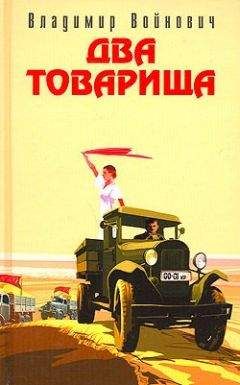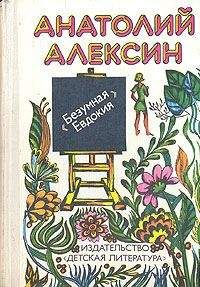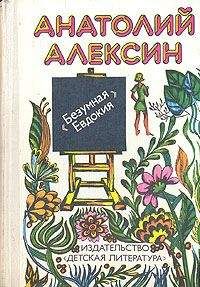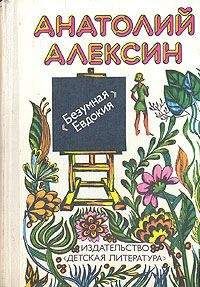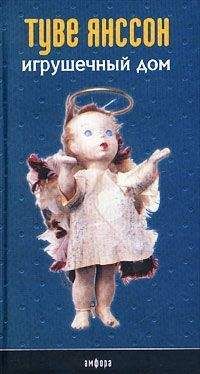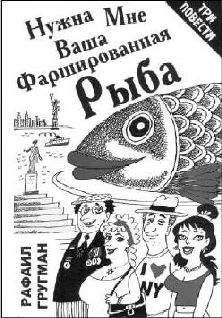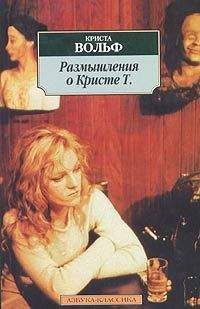Евгений Богат - Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления
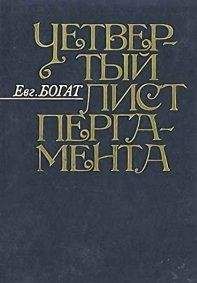
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления"
Описание и краткое содержание "Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления" читать бесплатно онлайн.
В книгу вошли рассказы, повести, эссе, размышления о подлинных и мнимых ценностях, о поиске смысла жизни.
Перед этим совершенством (я назвал бы его неописуемым, если бы нидерландские мастера не доказали обратного), совершенством не живописи, нет, а самой земной жизни, не может, по-моему, устоять ни одно человеческое сердце. У Шекспира, чьи образы венчают эпоху северного Возрождения, «уродливый дикарь, раб» Калибан, полузверь-получеловек, увидев, услышав, как музыку, это совершенство, говорит: «Золотые облака мне снятся, и дождь сокровищ льется на меня».
«Дождь сокровищ» — это обыкновенный дождь при солнце, радующий и сегодня детей. Но и обыкновенный дождь, как и обыкновенный снег, — чудо. «Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы дождя?» — вопрошал мудрец задолго до Шекспира.
В столетия, когда работали старые нидерландские мастера, мир казался особенно фантастическим, полным чудесных, непредвиденных и непредсказуемых вещей. В шекспировской «Буре» человек, не видевший у себя дома дальше собственного носа, потерпев кораблекрушение, рассуждает на диком острове: «Теперь и я поверю в чудеса, в единорогов, в царственную птицу, что фениксом зовется…» И чистосердечно добавляет: «Нет, путешественники не лгут».
Путешественники и не лгали. Они лишь, как дети, увидевшие то, чего никогда раньше не видели, перемешивали в рассказах явь с вымыслом, что делали странствовавшие люди и задолго до эпохи нидерландских мастеров, во все века, желая поразить воображение домоседов. Но конечно же, именно в ту эпоху — великих географических открытий — люди узнавали новое непрерывно. Они узнавали из рассказов путешественников вещи, не менее странные, чем те, что мы узнаем сегодня из повествований фантастов. Этими новостями шумели рынки и улицы, о них повествовали сочинения моряков, не чуждых писательству. Достоверное соединялось с игрой воображения, точно увиденное с баснословным и легендарным — мир открывался во времени-пространстве как собрание диковин.
Монтень рассказывает в «Опытах» о людях, становившихся волками и кобылами и потом опять возвращавшихся в человеческий образ; о людях без рта, питающихся лишь запахами; о людях, которые воюют только в воде, метко стреляя из лука; о стране, где у евнухов, охраняющих женщин, отрезают носы и губы, чтобы их не полюбили; он рассказывает о том, что души иногда опускаются с луны и возвращаются потом туда же… Его «Опыты» насыщены диковинными существами, обычаями, воззрениями. А за этой экзотикой — большая добрая мысль: надо суметь понять и полюбить даже людей без рта, питающихся запахами, и не уничтожать на суше тех, кто воюет хорошо лишь в воде. Сегодня, когда человек трезво помышляет о космических путешествиях и встречах с инопланетными существами, философы могут отнести подобные мысли к этике космоса, то есть к той высшей степени мудрости, которая поможет человеку сохранить величие перед лицом самых «ужасных» или самых беззащитных форм жизни.
И как нарождающаяся в наш век этика космоса помогает ощутить с особой остротой чудо жизни, ее разнообразие, игру, мощь, ее обыденность, ее тайну и полнее, точнее понимать место человека в мироздании, так и Монтеню его человечность открывает, высветляет в собрании диковин то, чему позавидовал бы и Х.-К. Андерсен.
Монтень рассказывает о стране, где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылает подданным огонь из собственного очага и, когда появляется с факелом царский гонец, все огни, до этого горевшие в доме, должны быть погашены. Вообразите: новогодняя ночь, дом с погашенными огнями в ожидании царского подарка, а потом созвездие огней, затмевающее небо. И это больше, чем живописно, это человечно, потому что дом стоит в непроницаемой темноте, открытый — с доверием к миру, который одарит его милосердным огнем. (Кстати, в одном из сегодняшних «добрых» фантастических романов высшая цивилизация несет разум «низшим», и те, узнав об этом, тоже ожидают «царственных гонцов» с нарочито погашенными огнями, чтобы не умерить ценность дара, не обидеть великодушных гостей.)
Рассказывая о совершенно диковинных, непонятных его эпохе нравах, Монтень повествует и о стране, где «все постоянно открыто, и дома, какими бы богатыми и красивыми ни были, не имеют ни окон, ни дверей, и в них не найти сундука, который бы запирался на замок». И это тоже сюжет, достойный Андерсена… Но то, что через века, в столетие более мирное, в мирной Дании могло стать высоким явлением искусства, для Монтеня было не искусством, а почвой и судьбой. Он и сам никогда не запирал собственного дома, хотя вокруг разбойничали, убивали, разрушали, жгли, забирали последнее. Монтень жил в веке беспокойнейшем и жестоком, и его открытый дом был вызовом хаосу и ужасу эпохи религиозных войн.
И когда мыслитель убеждает читателя, что человек должен понимать даже фантастические существа, не имеющие рта и питающиеся запахами, то в его век раздора, фанатизма и непримиримости это утверждение содержало в себе: Человек должен понимать Человека, что бы их ни отличало. Католик — гугенота, верующий — атеиста, француз — испанца, король — сапожника. Без понимания человека человеком, а оно, как непременное условие, заключает и понимание себя самого, жизнь делается «повестью, рассказанной дураком», — это чересчур поздно понял шекспировский Макбет.
Наверное, у любого из постоянных посетителей Эрмитажа есть зал, где ему думается особенно хорошо. Для меня это зал нидерландского искусства, может быть, потому, что, расположенный в стороне от больших эрмитажных дорог, он один из самых тихих. А может быть, потому, что это мир радостного любовного сосуществования людей и вещей, мир, где великое отражается в малом, мир ясных и мудрых соотношений человека с его разнообразным окружением, мир, при сотворении которого «бог, — по определению философа того же XV века Николая Кузанского, — пользовался арифметикой, геометрией, музыкой…».
Николай Кузанский в одном из сочинений, желая, чтобы читатель наглядно воспринял дорогую ему мысль об отношениях между конечным индивидуальным бытием и бытием бесконечным, рассказал об удивительных особенностях автопортрета Рогира ван дер Вейдена. Висел этот портрет в городской ратуше, где иногда бывал философ. И вот, где бы он ни находился, ему казалось, что лицо на портрете сосредоточено именно на нем; когда он стоял, был в покое и Рогир ван дер Вейден, когда он передвигался, менялось и направление взгляда Рогира ван дер Вейдена, он точно не отпускал от себя Кузанского, неотступно наблюдая за ним.
В лирическом отступлении большого мыслителя интересно, что философская мысль уясняет и даже углубляет себя в переживании художественного образа, который охватывает и портрет, будто бы неподвижно висящий на стене, и передвигающегося перед ним человека, чувствующего сопричастность абсолютному и бесконечному, воплощенному в портрете, в его «космической» (несмотря на совершенно индивидуальные черты лица) сути. Но самое замечательное, пожалуй, в том, что портрет тебя видит.
Портрет видит тебя. Северное Возрождение открыло «ТЫ». Его открыли Ян Эйк, Рогир ван дер Вейден, Монтень, Шекспир. И открытие это по масштабам ничуть не уступает великим географическим открытиям эпохи. Его можно сопоставить с ними и по разнообразию и ценности диковин. Путешественники, мореплаватели нашли их, когда были открыты таинственные земли, а искусство и философия — когда было открыто «ТЫ». Тоже достаточно таинственный материк…
И точно так же, как «старая добрая» Европа — ее порты, рынки, улицы, дороги — после великих географических открытий обогатилась новыми живописными подробностями, — и «Я» после открытия «ТЫ» стало духовно богаче, «живописнее». Думаю, что и упомянутая мельком выше мысль философа об отношениях, существующих между жизнью личной, индивидуальной и бесконечной, «космической», — тоже сопричастна открытию «ТЫ». Человек, чересчур углубленный, погруженный в себя самого, не чувствует и жизни мирозданья.
Отмеченная Кузанским интересная особенность живописи Рогира ван дер Вейдена — соотношение целого и бесконечного с частным, индивидуальным (автопортрета художника с самим собою) — ощутима по-иному в его эрмитажной картине: «Евангелист Лука, рисующий портрет мадонны», где за колоннами комнаты-лоджии расстилается окутанный золотистым воздухом земной — с рекой, улицами, домами — и одновременно космический, «вечный» — с неохватными далями, пейзаж. Художник (евангелист Лука) создает портрет женщины с ребенком на виду у космической жизни. А комната, где он рисует, дышит уютом устоявшейся повседневности.
Повседневность, неотрывная от образов космического масштаба, — интересная черта нидерландских художников.
Гентский алтарь ван Эйков в непраздничные дни бывал закрыт. В закрытом состоянии его наружные створки повествовали ясно и трезво о будничной жизни: вот рядовые бюргерские лица донаторов (дарителей алтаря), выписанные точно и жестко, вот обыкновенная улица с купеческими домами…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления"
Книги похожие на "Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Богат - Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления"
Отзывы читателей о книге "Четвертый лист пергамента: Повести. Очерки. Рассказы. Размышления", комментарии и мнения людей о произведении.