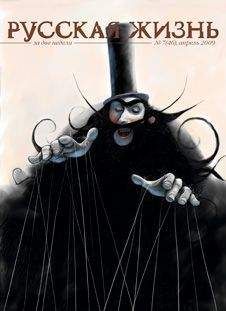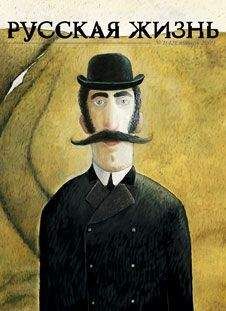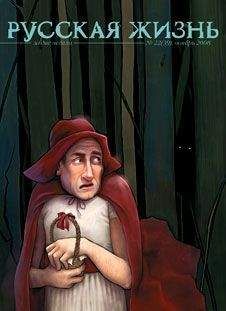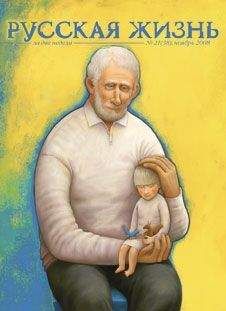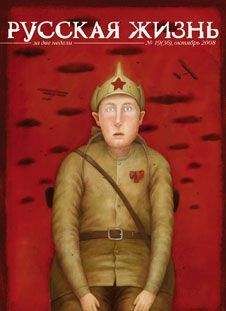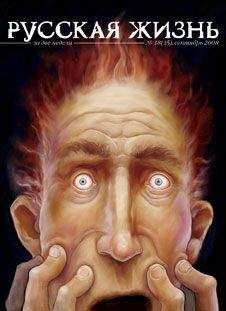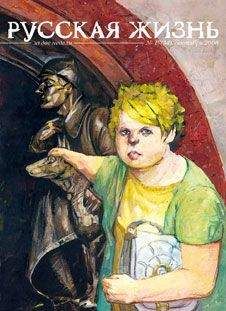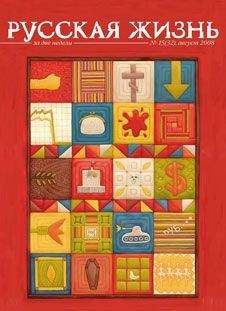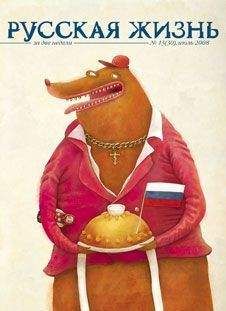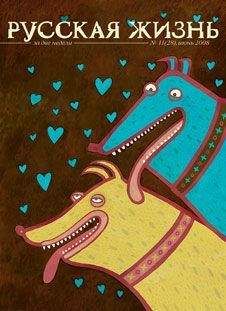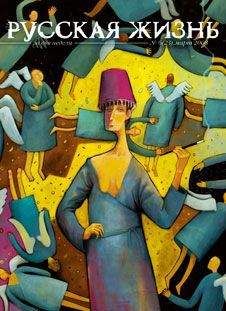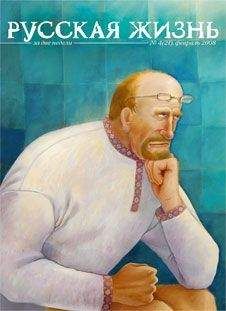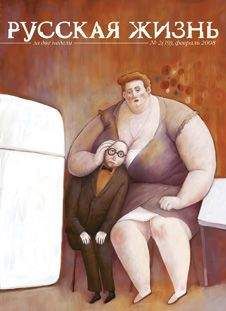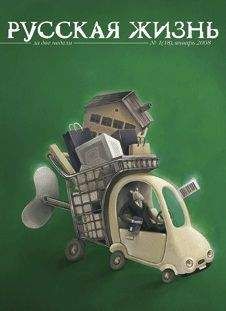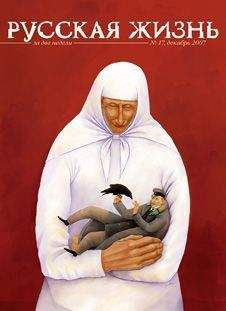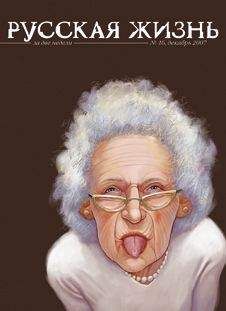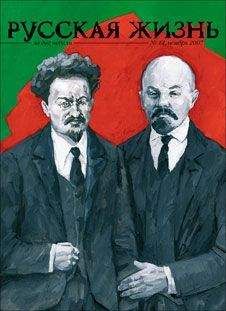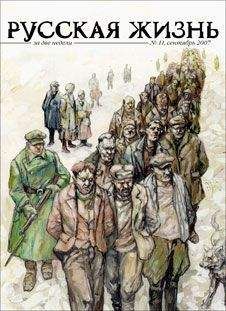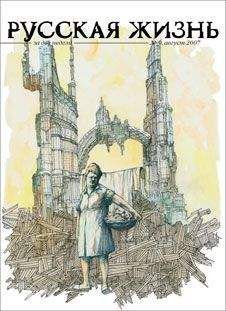Валерия Пустовая - Матрица бунта
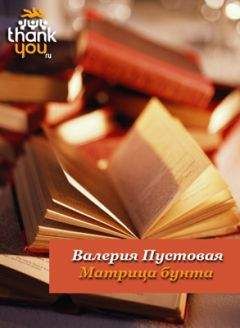
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Матрица бунта"
Описание и краткое содержание "Матрица бунта" читать бесплатно онлайн.
Сборник статей, посвящённых литературному процессу, новым книгам и молодым, многообещающим авторам. В галерее литературных портретов Валерии Пустовой — Виктор Пелевин, Андрей Аствацатуров, Слава Сэ, Сергей Шаргунов, Марта Кетро, Елена Крюкова, Дмитрий Данилов, Роман Сенчин, Владимир Мартынов, Олег Павлов, Дмитрий Быков, Александр Иличевский, Захар Прилепин, Павел Крусанов, Дмитрий Орехов, Илья Кочергин, Дмитрий Глуховский, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, Ольга Славникова и другие писатели.
Совпадение принципов критического суждения с миром прозы видно и у Кирилла Кобрина. Недавние рассказы, опубликованные в «Октябре» (2006. № 4), развиваются в сфере мыслимостей. Воображенный город, угаданное по воспоминаниям будущее («Его пути»), детектив о взаимоубийстве идей («Финальная реплика»), конспект задуманного романа («Угловое кафе»). Характерно, что, когда в финале последнего рассказа реальность воображенная и физическая пересекаются и автор едва законченного романа о посещении Бен Ладеном Праги становится жертвой теракта в пражском кафе, нам ощутимо жаль не погибших людей, в том числе и рассказчика, а его роман, так и не увидевший свет. Таков мир в глазах Кобрина: живые явления в нем кажутся куда менее достоверными, а следовательно, и менее достойными интереса и сопереживания, чем явления мира слов и идей. Даже в книге нон-фикшн «Где-то в Европе», основу которой составляют воспоминания о конкретных приметах времени детства и юности автора, реальность не обживается непосредственно, а познается через ее антураж — языковой, бытовой, пространственный. Гул жизни словно подслушивается автором через щели словечек и вещиц. Показательно признание, что именно привязанность к быту по-европейски сделала автора убежденным западником.
Герой Кобрина, выпавший из всех связей и контекстов, обнаруживший себя в жизни, о которой промечтал всю юность и которая, однако, на поверку заметно уступает его мечте, напоминает самоощущением Кобрина-критика. Выпав из любых обязательств и долженствований, потому что сама литература перестала вдруг быть делом непременным, Кобрин-критик частно блюдет добровольно взятые на себя обязательства последнего ценителя того, что больше, кажется, никому не нужно. И не потому ли он так увлечен историей литературы, в пику ее актуальному бытию, что самоощущение его, как и его героя, разомкнуто в прошлое? Кобрин-критик — точка, в которую сходятся лучи золотой эпохи замечательных книг, достойной филологии, добросовестных издателей и комментаторов, гениальных классиков. И пусть в эту эпоху ему и его сверстникам не так уж хорошо жилось, зато как мечталось, как верилось — ведь и «Европа» в книге прозы «Где-то в Европе» не реальное географическое пространство, обжитое ими гораздо позже, а идеальное пространство мечты! Европу в ее высшем выражении знала только эта советская, не выезжавшая из Союза интеллигенция, которая и потеряла свою мечту, едва обрела возможность в ней поселиться. Недаром герой Кобрина признается в тавтологичности своего бытия, обреченного теперь закатившимся шаром вертеться в комфортабельной лузе. Остается одно — растворяться в книгах, в мыслимом мире сберегая свой идеал.
Братание Городов
Не секрет, что усы Ивана Иваныча отлично пошли бы лимузину Петра Петровича. Гадая на лучшего критика среди писателей, я чувствую, что голосую за подход к литературе и аналитическую честность Кобрина, но подтасовываю и Быкову, в ком интересны мировоззрение и живость мысли, а что уж говорить о вере и пафосе всепреодолевающего духовного стремления у Павлова?.. Кажется, если соединить разобранных нами писателей в одно, получится идеальный критик. И в то же время каждый из них по отдельности — это воплощение идеальных черт критика: искреннего переживания за судьбу литературы, неравнодушия и бескорыстия в оценках, которые расставляются не в угоду, а наперекор предрассудкам общего мнения, веры в подлинность творческого импульса, которую не заменить ни расчетом, ни подражанием, наконец, решимости строить собственный мир ценностей. Строить священный Град литературы, который ежедневно атакуют воды сиюминутной жизни, но который благодаря тем, кто в него верит, а значит, и благодаря героям этой статьи, в нашем сознании — непотопляем.
(Опубликовано в журнале «Октябрь». 2006. № 10)
Крупицы тверди
Александр Иличевский
Как говорил Лев Толстой, чтобы рассказать, о чем роман Александра Иличевского, придется переписать его слово в слово. Цитата — лучшее средство представить этого писателя. Вот и С. Беляков, отметив в одной рецензии[19], что мало кто поставит под сомнение «мастерство» его героя, набирает побольше воздуху — и следует кусок зачаровывающего текста. Прием цитирования — не только самый убедительный, но и простой: Иличевского можно цитировать наугад, тыча пальцем в любые страницы, на каждой из которых нас ждут образцы неординарной словесной живописи.
Чтобы не быть голословной, тоже приведу любимый отрывок — из рассказа «Горло Ушулука». Тем более что выраженное в нем «ощущение затерянности» человека в ландшафте как «смерти наяву» нам пригодится:
«Пространственная ориентация от усталости дала сбой, все направления сломались или скомкались, голова медленно плыла над сочной степью, постепенно кругами подымаясь в вышину, но не обнаруживала вокруг ничего — кроме необитаемых белых пятен, залитых солнцем, как будто мира — внешнего этому острову — вовсе и не существовало <…> Белоголовый орел-курганник следовал надо мной беспрестанным надзором. Птица плавала восходящими кругами над луговиной, и голова темно кружилась от запрокинутого взгляда. Дикие кони, играя, валялись в духовитых травах. Почуяв человека, они взметывались, с грохотом кастаньет стакивались копытами — и я обмирал перед их демонической мощью: вспыхнув, кони неслись гнедым ветром, блистающим потоком мышц, стрелами шей. Избегая быть затоптанным, я прятался в тальник у ильменя, на лету распугивая зайцев, фазанов, пушечных коростелей, мгновенных гадюк <…> Редкая смесь восхищения и жути переполняла меня. Я не хотел и вспоминать о своем прошлом мире, он словно бы не существовал. Смерть наяву очаровывала меня, и если б друзья тогда меня сыскали, я бы сбежал, чтобы хоть еще немного продлить это ощущение затерянности, попытку проникнуть в забвение…»
Лишенные возможности сомневаться в изобразительном даре писателя, критики нападают с иного фланга. Диалектические вилы, на которые оказывается возможным поддеть Иличевского, в последнее время стали популярным оружием. Как бы ни сетовал М. Эдельштейн на «невероятный анахронизм дискуссии» «в координатах “чистое искусство” vs. “социально ориентированная литература”»[20], разлад формы и содержания в произведениях современных, по большей части двадцати— и тридцатилетних, писателей остается главным предметом тревоги и заботы литературной общественности.
«Сказать ему нечего», — отрезает Е. Ермолин в отзыве на один из рассказов Иличевского, дежурно произнеся перед тем все положенные комплименты «таланту рассказчика», «образному видению», «свежести взгляда» и «сочности языка»[21]. А М. Кучерская, прочитав последний по времени роман Иличевского «Перс», упавшим голосом рекомендует «стремительно наступающими на тебя громадами описаний» — «просто любоваться»[22]. Однако рассматривая произведения писателя как единый текст, нельзя не заметить, что в самом характере его образов есть определенная последовательность и что проза эта не только изображает, но и выражает.
Необъяснимость, неясность писателя («волнистый рог непонятностей», — иносказательно выразилась об одном из романов Иличевского А. Ганиева[23]) — всегда провал. Но вот чей: его самого, читателя или критики? Попробуем отжать эту набухшую прозу, отделив закономерное от случайного, крупицы тверди от каплей тумана.
Первая же ассоциация, которая приходит на ум в связи с Александром Иличевским, кажется еще одним взглядом в никуда. Путешествие — сверхсюжет этой прозы, герой Иличевского охотно перемещается по карте — Москвы, России, мира. Но что такое эти перемещения: психологический мотив? повод к рассказу? философия?
Странно, что никому пока в голову не пришло задуматься, почему герой Иличевского так маниакально увлечен ландшафтом, и вообще — увидеть в этом влечении болезненность. Путешествие автоматически воспринимается как знак жизнестойкости, любви к жизни. И. Роднянская человеколюбиво мечтает, что герою Иличевского, в отличие от персонажей его более депрессивных коллег по поколению, «есть вроде бы куда двинуться»: «И он, и автор — захвачены чудом жизни». Но «размыкается» ли его герой-путешественник «навстречу миру»[24] или еще чему — надо выяснить.
«Содержание нескольких рассказов, причем — лучших рассказов Иличевского, можно определить как вглядывание в ландшафт», — справедливо замечает Беляков, а мы добавим: и романов тоже. «Вглядывание в ландшафт» — точная формула этой прозы. Взаимоотношения зрения и ландшафта здесь развиваются как сквозной мотив, организующий и внешние события, и внутренний строй героя.
Иличевский буквально заклинает, гипнотизирует и себя, и читателя словами из двух взаимодействующих смысловых рядов. Нарочитость слов: «ландшафт», «пространство», «глаз», «сетчатка», «зрение», их ощутимая, но не вполне понятная смысловая нагруженность вынуждают воспринимать ландшафт и зрение как двух действующих субъектов, двух сверхперсонажей этой прозы. «Приоритет визуального»[25] в таком случае не следствие стилистической избыточности, а принцип самого авторского мышления. Герой Иличевского влюбляется, теряет работу, похищает сына, берет пробы нефти или участвует в камланиях — но никакие социальные и личные связи не отвлекут его от главных отношений в его жизни: визуальных. Глаз — своеобразная метафора личности, глаз представительствует за всего человека. Ландшафт — лишенное человечности, безличностное. Именно в таком виде, разросшись до метафоры философских категорий «я» и «не-я», глаз и ландшафт образуют в прозе Иличевского исчерпывающую модель мироздания.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Матрица бунта"
Книги похожие на "Матрица бунта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валерия Пустовая - Матрица бунта"
Отзывы читателей о книге "Матрица бунта", комментарии и мнения людей о произведении.