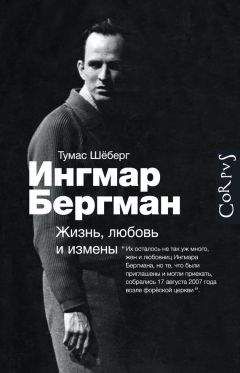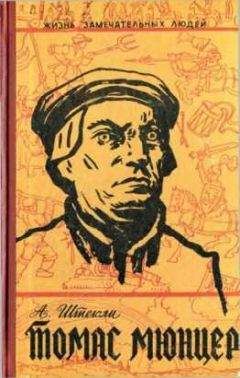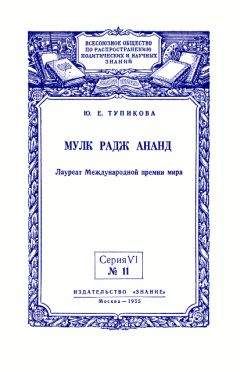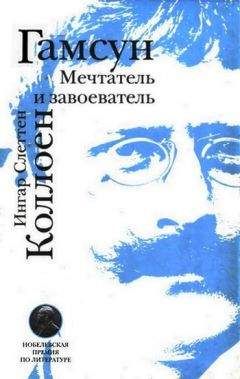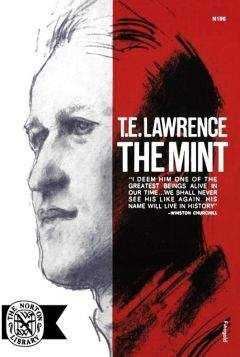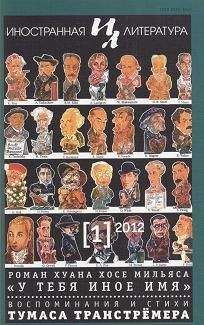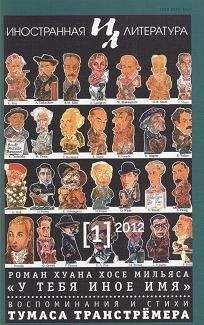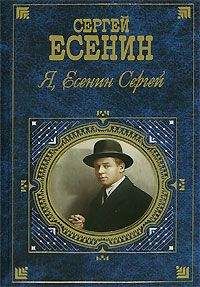Томас Манн - Путь на Волшебную гору

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Путь на Волшебную гору"
Описание и краткое содержание "Путь на Волшебную гору" читать бесплатно онлайн.
Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.
Корфиц Хольм, знакомый мне и друживший со мной еще с Любека, где он, уроженец Прибалтийского края, поступив в предпоследний класс, окончил гимназию, в те годы занимал видное положение в издательстве Лангена — сам Ланген[79], привлеченный к суду по делу об «оскорблении величества», жил тогда, как и Ведекинд, за границей. Встретив меня на улице, от тут же взял меня на службу в редакцию «Симплициссимуса» с месячным окладом в сто марок, и около года, пока Ланген не распорядился из Парижа упразднить эту должность, я в изящно обставленном помещении редакции на Шакштрассе работал рецензентом и корректором, в частности — ведал первичным отбором поступивших в «Симплициссимус» новелл: свои предложения я передавал в вышестоящую инстанцию, доктору Гехейбу, брату известного педагога, одного из основателей «загородных школ», а тот сообщал мне окончательное решение. Моя деятельность имела смысл. Я любил этот журнал, с самого начала ставил его намного выше издававшегося Георгом Хиртом журнала «Югенд», жизнерадостная бойкость которого казалась мне филистерской, и был счастлив, когда в первых же двух его номерах появился один из ранних моих рассказов «Путь к счастью» — гонорар юный Якоб Вассерман отсчитал мне золотыми монетами. Брат и я, мы, так сказать, в подражание духу лангеновского начинания, его комическим повестям в карикатурах, его пессимистически — причудливому юмору, еще в Палестрине с превеликим усердием изготовили сборник рисунков, который, как это ни было непристойно, преподнесли нашей младшей сестре в день ее конфирмации. Два — три моих неумело — юмористических рисунка из этого сборника были опубликованы по случаю пятидесятилетия со дня моего рождения.
Итак, моя связь с этим необыкновенным юмористическим журналом была в какой‑то мере внутренне оправданна. Помогая редактировать его, я вместе с тем оставался активным литературным сотрудником. Несколько моих небольших новелл, как, например, «Дорога на кладбище», в числе их такие, которые я не включил в собрание моих сочинений, и даже некое рождественское стихотворение впервые были напечатаны там. Особенно хвалебно отозвался о «Дороге на кладбище» Людвиг Тома[80], в то время уже довольно близко стоявший и к «Симплициссимусу», и к выпускавшему журнал издательству Лангена. Еще больший успех у самого Лангена и его ближайших сотрудников имел «Тяжелый час» — весьма субъективный этюд о Шиллере, написанный мною для «Симплициссимуса» к столетию со дня смерти поэта. Я был изумлен и растроган тем, как тепло, с каким глубоким пониманием верхнебаварский народный писатель откликнулся на небольшую работу человека намного моложе его и совершенно другого склада. Что до меня, я искренне восхищался его «Рассказами сорвиголовы» и любил их. Немало вечеров провел я вместе с ним и другими «симплициссимовцами» — Гехейбом, Т. — Т. Гейне, Тени, Резничеком и пр. — в баре Одеона. Чаще всего Тома спал с потухшей трубкой в зубах.
Как я уже сказал, моя связь с этим смело действовавшим и понастоящему артистическим кругом, самым лучшим «Мюнхеном» из всех когда‑либо существовавших, была вполне оправданна. Однако я не был целиком поглощен ею и наряду с моей редакционной работой, для которой мне великодушно была предоставлена отдельная комната с роскошным письменным столом, продолжал свое заветное, наиважнейшее для меня дело — трудился над «Будденброками», а распрощавшись с издательством Лангена, снова обратил на них всю свою творческую энергию. Иногда, У матери, в присутствии братьев и сестер, а также друзей нашей семьи, я читал вслух отрывки из рукописи. Это было такое же семейное развлечение, как всякое другое; слушатели смеялись, и, помнится, все считали, что за это пространное, упорно мною продолжаемое повествование я взялся только ради собственного удовольствия, шансы на выход его в свет ничтожны, и в лучшем случае — это длительное техническое упражнение в искусстве слова, нечто вроде музыкального этюда, развивающего беглость пальцев. Не могу с уверенностью сказать, держался ли я сам другого мнения.
В ту пору самыми близкими моими друзями были двое юношей из того кружка молодежи, где вращались мои сестры, — сыновья дрезденского художника, профессора Академии художеств Э. В моей привязанности к младшему из них, Паулю — тоже художнику, тогда учившемуся в Мюнхенской академии у знаменитого анималиста Цюгеля и вдобавок превосходно игравшему на скрипке, — казалось, воскресло чувство, которое я некогда питал к тому белокурому, бесславно погибшему школьному товарищу, но благодаря большей духовной близости оно было намного радостнее. Карл, старший, музыкант по профессии и композитор, в настоящее время — профессор Кельнской консерватории. Когда я позировал его брату для портрета, он, в своей столь характерной манере, изумительно плавно и благозвучно играл нам «Тристана». Я тоже немного пиликал на скрипке, и мы вместе исполняли сочиненные им «трио», катались на велосипедах, во время карнавала вместе посещали «Крестьянские балы» в Швабинге и зачастую превесело ужинали втроем то у меня, то у них. Им я обязан тем, что познал дружбу — переживание это, если бы не они, вряд ли выпало бы на мою долю. С легкостью, порожденной высокой культурой, преодолевали они мою меланхоличность, нелюдимость и раздражительность, просто — напросто воспринимая их как положительные свойства, неотделимые от способностей, внушавших им уважение. Хорошее было время.
Я так увлекался тогда ездой на велосипеде, что почти ни шагу не делал пешком и даже в проливной дождь, надев пелерину из грубого сукна и калоши, по всем своим делам ездил на этом вехикуле. На собственных плечах втаскивал я его в свою, находившуюся в четвертом этаже квартирку, где ему было отведено место в кухне. Днем, после работы, я регулярно чистил его, опрокинув на седло. Вторым, непременным моим занятием, прежде чем я, побрившись, катил обедать в город, было вычистить керосинку.
Пока я съедал свой, стоивший одну марку двадцать пфеннигов, обед, женщина, ежедневно приходившая в это время, убирала мою квартирку. Затем я в летние дни отправлялся, с книгой на руле, в Шлейсгеймский лес. На ужин я покупал что‑нибудь съестное в одной из швабингских лавок и запивал еду чаем или же разбавленным экстрактом Либиха.
Взаимная симпатия связывала меня с автором романов и новелл Куртом Мартенсом, живо рассказывающим в своих «Воспоминаниях» об этой дружбе, почин которой исходил от него. Он один из тех немногих— пересчитать их можно по пальцам одной руки — людей, с которыми я за всю свою жизнь был на «ты». Посещал меня и иллюстратор Мартин Бемер, влюбленный в одну из моих небольших новелл — «Платяной шкаф». Заходил и Артур Голичер, чей роман «Отравленный колодец» я, будучи рецензентом у Лангена, отстаивал, и мы вместе музицировали. Ему и Мартенсу я читал отрывки из «Будденброков». Эстету, позднее — коммунисту Голичеру бюргерский дух моей писанины вряд ли что‑нибудь говорил, тогда как Мартенс выражал смешанное с изумлением одобрение, за которое я по сей день ему признателен. Он же познакомил меня со своим двоюродным братом Гансом фон Вебером, издателем и редактором «Цвибельфиша», и Альфредом Кудином, чья мрачно — фантастическая, пронизанная эротизмом графика сильно меня потрясла. Это он впоследствии нарисовал меланхолически — гротескную обложку для первого издания сборника моих новелл, вышедших под общим заголовком «Тристан».
Я не упомянул здесь о том, как складывалось в детстве и ранней юности мое духовное развитие, — ни о неизгладимом впечатлении, которое произвели на меня «Сказки» Андерсена, ни о тех вечерах, когда мы сидели затаив дыхание и мать читала нам вслух отрывки из «Моих скитаний» Рейтера (или пела, аккомпанируя себе на рояле), ни о преклонении своем перед Гейне в годы, когда я впервые стал писать стихи, ни о тех уютно — вдохновенных часах, когда я после школы, с тарелкой бутербродов под боком, подолгу читал Шиллера. Но я не хочу полностью умолчать о глубоких, решающих впечатлениях от книг, прочитанных мною в те годы, до которых я довел свой рассказ, — о том, что я пережил, читая Ницше и Шопенгауэра. Несомненно, духовное и стилистическое влияние Ницше сказывается уже в самых ранних моих прозаических опытах, увидевших свет. В «Рассуждениях аполитичного» я уже говорил о моих связях с этим волшебным комплексом и указал их, лично ко мне относящиеся, предпосылки и пределы. Соприкосновение с ним в значительной степени определило мой, находившийся тогда в процессе становления духовный склад; но изменить сущность нашу, сделать из нас нечто иное, нежели мы суть — этого никакая сила, движущая развитием, не может; вообще говоря, всякая возможность развития предполагает наличие некоего «я», обладающего интуитивной волей и способностью личного выбора, переработки в нечто сугубо свое. Надо, сказал Гёте, чем‑то быть, чтобы что‑либо создать. Но даже чтобы уметь чему‑либо научиться в том или ином высшем смысле, надо чем‑то быть. Исследовать, какого свойства в данном случае (то есть у меня) было органическое освоение и претворение этики Ницше и его своеобразия как художника, — это я предоставляю критике, располагающей необходимым к тому досугом. Во всяком случае, оно было сложного свойства, было проникнуто глубоким презрением к вызванному модой влиянию философа на широкую публику, на «улицу», ко всему тому упрощенному «ренессанству», культу сверхчеловека, эстетизму на манер Цезаря Борджиа, той превозносящей красоту и расовое превосходство шумихе, которые тогда всюду и везде были в большом ходу. В двадцать лет я постиг относительность «имморализма» этого великого моралиста; вникая в его ненависть к христианству, я вместе с тем видел его братскую любовь к Паскалю и воспринимал эту ненависть как явление чисто морального, но никак не психологического порядка — различение, на взгляд определяющее также и сущность его (для критической оценки культуры этой эпохи наиважнейшую) борьбы против того, что он до самой смерти любил больше всего на свете, — против Вагнера. Словом, в Ницше я прежде всего видел того, кто преодолел самого себя; я ничего не понимал у него буквально, я почти ничего не принимал у него на веру, и именно это придавало моей любви к нему полную страсти двуплановость, придавало ей глубину. Неужели я мог принимать «всерьез», когда он проповедовал гедонизм в искусстве? Когда, в пику Вагнеру, превозносил Визе? Какое мне было дело до его философемы силы и до «белокурой бестии»? Они для меня были чуть ли не помехой. Прославление им «жизни» за счет духа, эту лирику, возымевшую столь пагубные для немецкого мышления последствия, — освоить их можно было только одним способом: как иронию. Правда, «белокурая бестия» мелькает в моих юношеских произведениях, но там она почти что лишена своей бестиальности, и осталась одна только белокурость вкупе с бездумностью — предмет той эротической иронии и консервативного приятия, которыми дух человеческий, он это прекрасно знал, в сущности, так мало себя роняет. Если даже то, лично мне сообразное превращение, которому подвергся во мне Ницше, и означало возврат к бюргерству — ну что ж! Этот возврат представлялся, да и сейчас представляется мне более обоснованным и духовно изощренным, чем героико — эстетическое опьянение, обычно выражавшее, в литературе, воздействие творчества Ницше. Переживания, с этим творчеством связанные, были предпосылкой полосы консервативного мышления, пройденной мною в военное время; но в конечном счете оно дало мне способность сопротивляться всем скверноромантическим соблазнам, могущим возникнуть и ныне в таком множестве возникающим из негуманистической оценки взаимоотношений жизни и духа.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Путь на Волшебную гору"
Книги похожие на "Путь на Волшебную гору" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томас Манн - Путь на Волшебную гору"
Отзывы читателей о книге "Путь на Волшебную гору", комментарии и мнения людей о произведении.