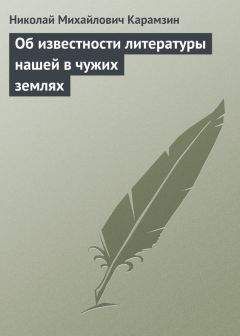Наталья Иванова - Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век"
Описание и краткое содержание "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век" читать бесплатно онлайн.
Книгу известного литературного критика Натальи Борисовны Ивановой составили очерки о литературе последних лет. Рассказывая о движении и взаимодействии различных литературных сил автор выявляет линии развития русской словесности после обретения ею бесцензурной свободы. Размышления критика вписаны в хронику современной литературной и общественной жизни, в конкретный общекультурный контекст конца XX — начала XXI веков. Книга насыщена как известными, так и мало знакомыми именами и фактами литературной и общественной жизни. Среди персонажей книги такие классики русской литературы, как В. Астафьев, Д. Солженицын, В. Маканин, а также ставшие известными только к концу XX пека писатели Д. Пригон, Т. Толстая, Э. Лимонов и многие другие. Автору книги удалось показать развитие современной словесности в непростое и полное конфликтов и противоречий время, осмыслить путь нашей литературы в контексте глобальных политических перемен в нашей стране.
И еще об одном — о корректности: критики «НГ» старались ее сохранять при любых прочих условиях. То есть они, конечно, язвили, но язвили (до поры до времени, о чем опять-таки дальше) корректно. Особенно — в отношении «старшеньких». Язвительность распространялась в полной мере на коллег-литературоведов любых поколений (здесь никаких внутренних запретов не было; и безграмотность торжествующе бичевалась), коллеги-критики тоже не избежали язвительных определений. О прозаиках и поэтах старшего поколения речь шла в интонации «уважения с придыханием». Выступали в «НГ» критики не только «штатные», но привлекались к сотрудничеству и «свободные» — оттого спектр индивидуальностей был поначалу довольно широк; однако со временем сужался, и критика «НГ» постепенно обретала как бы общие родовые черты. А страница «Искусства» стала авторской (причем коллективным автопортретом единомышленников по стилю).
Достаточно резкой, различающей границей между критиками старой либеральной школы, изредка появлявшимися на страницах «НГ», и критиками самой «НГ» стало отношение к аудитории. Если адресатом первых была «общественность», читатели, подписчики («народ и власть»), то адресатом вторых являлись они сами. Кто-то, не упомню кто, назвал всех их скопом выучениками Льва Аннинского; с этим согласиться трудно. Для Аннинского «узкий» профессионализм, которым больше всего и гордились критики «НГ», работа «фактически на узкий круг профессионалов» — как «во всем цивилизованном мире» — занятие «удушающе бескислородное». Для Аннинского, Рассадина, Сарнова или Золотусского, при всем различии их убеждений и манер, ощущение, что их «никто не читает», — трагическое. Для новых критиков — норма, не вызывающая отрицательных эмоций. Аннинский, Рассадин, Сарнов или Золотусский озабочены прежде всего реальностью, жизнью, или судьбой России, или судьбой свободы и демократии, или тоталитарным наследием. «Новым» до этого дело, конечно, есть, но на страницу своего текста они эту реальность не допустят, сочтя такой mixt свидетельством недостаточной профессиональности. Архангельский и Немзер будут иметь свои пристрастия и амбиции, от осуждения чрезмерной увлеченности политикой старших товарищей (до 1993-го) вплоть до яростного соучастия в оной и подписания обращений к президенту (в сентябре — октябре 1993-го), вплоть до создания чуть ли не партии? движения? — по имени 4 октября. Но в критике разговор об этом для них заказан. Критик в них востребован только как критик, равный самому себе. Для «старшеньких» это непривычно, для А. А. и А. Н., для Б. К. — как раз. «Формировать общественное мнение»? Если мы и будем заниматься этим неблагодарным занятием, то в свободное от критики время, в статьях публицистических.
Но «время шло и старилось», критики «НГ» по ряду обстоятельств были вынуждены газету покинуть и сотворили новый раздел в новой газете, «Сегодня», возникшей методом деления. Впрочем, был такой момент деления явлением распространенным — не одной только редакции «НГ» он коснулся, но и «Литературного обозрения», и «Юности»… Свято место пусто не бывает — пришли в «НГ» «новые новые» критики, пришли отчасти на готовенькое, потому что дело было налажено, а стиль… что ж, стиль круто поменялся. Вернее, формальные находки и стилистические изыски прежней критики «НГ» были доведены до совсем иной температуры.
Это совпало с моментом кризиса политического, разочарования и апатии, охвативших общество от успехов нового «либерально-демократического» режима. И «новая новая» критика «НГ» в этой ситуации стала критикой (в отличие от «старой новой» редакции) идеологической, свидетельством чему был целый ряд публикаций в том жанре, который в советские времена именовался передовицей, а в «НГ» назывался по-иностранному — «Карт-бланш». Именно здесь открыто был высказан комплекс идей, рубивших канаты былых связей с демократическими силами. Демократы издевательски осмеивались, разоблачались, гневно изобличались, а вместе с ними — и литераторы, властям содействовавшие (или их направлявшие). Пиком кампании по разоблачению стали октябрьские события 1993 года — именно с того времени критика газеты недвусмысленно выбрала политическую (оп)позицию и идеологию. В общем идеологическом спектре этой (оп)позиции и идеологии были гораздо интереснее Невзоров, Лимонов и Проханов, нежели деятели «Апреля» и прочих писательских деминститутов.
Чисто поколенчески «новая новая» критика избрала стратегию отстрела либералов-шестидесятников (именно на них была возложена ответственность за идеологию и результат перестройки) и начала работу по персоналиям, осуществляя на деле классовый подход. Избиралась персональная мишень, и с тщательной настойчивостью эта мишень на страницах газеты уничтожалась: Бенедикт Сарнов, Булат Окуджава, Андрей Битов, не говоря уж о менее заметных фигурах, расстреливались из номера в номер. Шла работа по уничтожению репутации, при этом доказательств, в принципе, не требовалось, тексты вышеупомянутых авторов могли привлекаться, но можно было без них и обойтись — важен был рисунок судьбы, в котором выискивались (с упорством, заслуживающим лучшего применения) неприглядные, но мнению высокоморальных, светлых личностей, работающих в критике «НГ», стороны. В дело пошла не литература, а все то, что клубилось около нее.
Для такой деятельности были востребованы маргинальные жанры полусветского комментария, заметки но поводу, стихотворной эпиграммы, «поведенческого» фельетона, частушек. Бескорыстный литературно-критический интерес к тексту исчез — его заменил интерес совсем иного рода. Литературную жизнь сменил низкий литературный быт, литературное произведение утратило свою значительность на фоне болезненного интереса к частной жизни и стратегии поведения той или иной персоны; литературная репутация не волновала так, как волновал «имидж».
Это было связано, надо сказать, с общей атмосферой литературной жизни, с возникновением того, что можно обозначить как событие: внешний рисунок поведения человека-артиста, процесс исполнения на фоне приливной волны аудиовизуальной культуры оказался привлекательнее результата художественной деятельности. Вернее, сам процесс, «перформанс», спектакль, акция вытесняли результат. Поэтому презентация стала важнее книги — книгу, собственно говоря, можно было теперь и не открывать, однако в презентации непременно поучаствовать. Именно в этой атмосфере «новая» критика перешла к жанру «тусовочного стеба», конструктивными принципами которого кино- и телекритик Юрий Богомолов («Искусство кино», 1995, № 6) считает «поверхностность ассоциаций, пенкоснимательство, повышенную эгоцентричность авторской точки зрения, раскованность, плавно переходящую в раздраженность».
Первоначально казалось, что критика разделилась: условно говоря, художественная осталась за журналами, а «функциональная» обрела прописку в новой прессе.
На самом же деле результат был парадоксальным.
Газетная критика стала не столько «отправлять функцию», сколько создавать свой художественно-идеологический мир.
И туг возник свой (на время) литературно-критический авторитет: Дмитрий Галковский.
Как отметил Виталий Третьяков во врезке к очередной статье Галковского, эта фигура знаковая для «НГ». В общем, если бы Галковского не было, его бы следовало выдумать.
Методом воздействия на публику «новой» критикой был избран шок. Эпатаж. Скандал. И Галковский с его «Бесконечным тупиком», «Андеграундом», «Стучкиными детьми», разборками с шестидесятниками, советскими философами, наконец, всей отечественной словесностью здесь был, конечно, автором желанно уникальным.
Галковский переэпатировал даже Виктора Ерофеева, легким движением пера сбросившим всю подсоветскую литературу с парохода современности. (Более того, Галковский умудрился переэпатировать даже «НГ», которая от него в скором времени бурно отреклась заметкой все того же разочаровавшегося в своем протеже Третьякова).
Притягательность Галковского идеологическая состояла в том, что он проходил как бы поверх идеологий. Подозрение в какой-либо ангажированности отпадало само собой. В момент обменов артиллерийскими обстрелами между «Нашим современником» и либеральной интеллигенцией он взял все необходимые ему крепости и напечатался не только в «Нашем современнике» и «Москве», по и в «Новом мире». Обливая презрением его не призревших, дал интервью журналу «Континент», стал и его автором.
Ему нельзя было отказать ни в стиле, ни в конце дуальности, ни в энергии. А главное — он явил собою тин тотального критика, критика, сражающегося с целой системой, выращенной в разных, порою противоположных, как советских, так и антисоветских, как «левых», так и модерновых, проявлениях. В этой тотальности, безусловно, присутствовало свое отрицательное обаяние. Это был поистине «подпольный» критик, но совсем не из «андеграунда», дикорастущий, независимый, несчастный, закомплексованный, написавший о своих комплексах абсолютно открыто и откровенно и, наконец, освобождающийся от них на глазах изумленного читателя, не привыкшего к публичному самообнажению. Тем более, как бы еще и отчасти игровому. Галковским были предъявлены претензии не только литературе, а жизни; он сразу выбрал амплуа сироты, изгоя. Через критику Галковским был осуществлен тотальный жанр отношения к жизни — и к литературе как к главной для него форме ее проявления, «несущей балке» действительности. Отсюда — глобальная амбиция, отсюда — ревизия, которой он подверг литературу, столь долго и упрямо унижавшую и отвергавшую его. В этой амбиции пряталась, конечно же, зависимость, то есть несвобода; но была и своя свобода — от поколения, от группы, от «возьмемся за руки» — то есть от всего того, от чего не были свободны ни шестидесятники, ни андеграунд, ни «метрополевцы», ни «смогисты». Галковский — одиночка, незаконный сын убитой русской словесности, предъявляющий на наследство свои собственные права. Пафос — вот что отличало Галковского от других «новых» критиков, высокий пафос как бы «ветошки», но «право имеющей». Самоуничижение компенсировалось великой гордыней, и именно она, гордыня, в конце концов, и поставила его, сказавшего напоследок «мерси» всем тем, кто ему отказал в праве на публикацию книги, вернее, в возможности ее выпуска, за рамки печатной литературы. Галковский тотально обиделся — теперь уже на всех без разбора.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век"
Книги похожие на "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Иванова - Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век"
Отзывы читателей о книге "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век", комментарии и мнения людей о произведении.