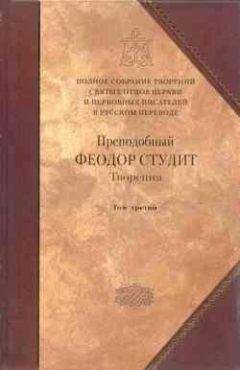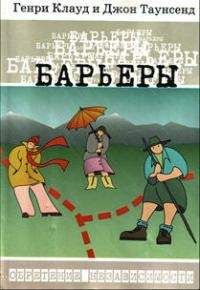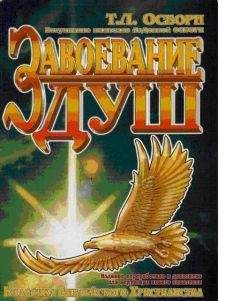Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре. Данный том охватывает три века — XII–XIV, от последних десятилетий перед монголо–татарским нашествием до победы на Куликовом поле, от предельного раздробления Руси на уделы до века собирания земель Северо–Восточной Руси вокруг Москвы. В этом историческом отрезке многое складывается совсем по–иному, чем в первом веке христианства на Руси. Но и внутри этого периода нет единства, как видно из широкого историко–панорамного обзора эпохи. Святость в это время воплощается в основном в двух типах — святых благоверных князьях и святителях. Наиболее диагностически важные фигуры, рассматриваемые в этом томе, — два парадоксальных (хотя и по–разному) святых — «чужой свой» Антоний Римлянин и «святой еретик» Авраамий Смоленский, относящиеся к до татарскому времени, епископ Владимирский Серапион, свидетель разгрома Руси, сформулировавший идею покаяния за грехи, окормитель духовного стада в страшное лихолетье, и, наконец и прежде всего, величайший русский святой, служитель пресвятой Троицы во имя того духа согласия, который одолевает «ненавистную раздельность мира», преподобный Сергий Радонежский. Им отмечена высшая точка святости, достигнутая на Руси.
Организующе–соединяющим части текста началом являются еще два весьма частых приема. С одной стороны, речь идет о цитатах из Ветхого Завета (Давид) и из Нового Завета (слова Христа, апостолов), цитаты или скорее их варианты из отцов Церкви и раннехристианских авторов (Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина). Эти цитаты обычно коротки, нигде не являются самоцелью, но как бы вводят некое событие русской жизни XIII века в пространство «прецедента» и тем самым классифицируют его («это — то самое»), довольно равномерно распределены по тексту, и поэтому весьма уместны: большее их количество и больший объем, несомненно, отвлекали бы слушателя от основной линии проповеди; здесь же, напротив, лаконичная цитата как бы задавала в нужном месте вертикально–углубляющее движение, соотнося нынешнее с тем, что было в Священной истории и что нас, нынешних, с ней связывает и вдохновляет на высокое подражание.
С другой стороны, несомненно «организующе–соединяющее» действие довольно многочисленных «вопросных» серий, обращенных к слушателям и предполагающих особое усиленное внимание их к этим вопросам, активное слушание, вовлекающее их хотя бы в потенциальный диалог, причем иногда голос слушающих, как бы их ответ за них присваивает себе Серапион, исходя из того, что ответ элементарен и он легко угадывается. Иногда же, наоборот, «свое» Серапион отчуждает в пользу слушающих и отвечает им–себе же, ср.: Аще ли кто речеть: «Преже сего потрясения беша […]» — рку: Тако есть, но — что потом бысть намъ? Не глад ли? Не морови ли? не рати ли многыя. Такие построения имеют, кажется, главной своей целью мотивировать очередную серию вопросов, которые подтолкнули бы слушающих к более глубокому постижению обсуждаемого, навели бы на новый взгляд на, казалось бы, хорошо им известное, привычное. Здесь нет необходимости приводить эти вопросные серии, поскольку они содержатся в многочисленных представленных ранее цитатах из «слов» Серапиона. Остается добавить, что проповедь–поучение, как она выстраивается им, благодаря густоте «вопросного» слоя (хотя он разумеется, прерывный) и самой ситуации актуального действа, с глазу на глаз со слушающими его, так сказать, sic et nunc, таит в себе значительные «диалогические» потенции, как и любая ситуация «тесного» общения, в которой используется язык. Инвентарь вопросов достаточно велик (кто? кому? к кому; что? чего? чего ли? чего не? чим? чему?; почто? зачемъ?; где?, доколе?; какъ? како? како ли? яко?; какия/какыя? из какихъ? кая? кыми? от кихъ? в кое время? от которыхъ? неужели? не… ли…? ти…? се ли …? сим ли…? аще… ли…? аще не… ли…? аже …?) и количество их превышает полусотню. Эти вопросы и тем более в таком количестве служат живому, как бы непосредственному речевому контакту проповедника с аудиторией, рождают иллюзию (впрочем, не вполне безосновательную), что на некоторые из вопросов отвечает et altera pars (обычно предполагаются в таком случае ответы типа «да» или «нет» или их вариации; вероятность определенного ответа на вопрос в этих ситуациях приближается к стопроцентной черте; более сложные вопросы предполагают и более дифференцированные ответы, вероятность каждого из которых, разумеется, существенно меньше). Оценивая «слова» — проповеди Серапиона на основе их сравнения с другими образцами древнерусской проповеди, можно с уверенностью говорить об их высокой «диалогизации» (в указанном здесь понимании) и особенно напряженном «драматизме» этих «слов». В известной степени это объясняется и использованием в ряде случаев перволичной формы (азъ, грешный; рку, учю, велю, виде азъ и т. п.) и «подвижностью» Я проповедника: он то обособляет себя от слушающих, то включает себя в их множество — мы, то есть и вы все и Я).
Вопрошания в серапионовых «словах», несомненно, составляют важное средство в его «риторическом» репертуаре, хотя то, каковы эти вопрошания, как они употребляются и что стоит за ними, сильно снижает их риторичность: перед слушателем, или читателем, способным поставить себя на место слушателя, человек, видящий близкую гибель, и люди, большей частью не видящие ее или равнодушные к своей судьбе: он успевает ставить перед ними вопросы, за каждым из которых — боль и сознание собственного бессилия, и вера в то, что в конце концов эти люди не могут не осознать грозящей всем им беды. В этой ситуации «риторическое» воспринимается не как украшение, а как весть об этой беде, переданная настолько выразительно, но и кратко, чтобы ее успели воспринять и осознать ее главный смысл.
На этом фоне роль эпитетов, нередко почти не отличающихся от определений, достаточно скромна. Отчасти на них нет ни времени, ни места, и они появляются чаще в «спокойных», отчасти «описательных» частях текста; отчетливо индивидуальные эпитеты весьма редки. Общее представление об эпитетах в «словах» Серапиона можно получить из следующего словарика:
Б: бездушный (бездушно естьство), безжалостный (безжалостный народ), беззаконный (безаконные человеки), безначальный (безначальный отець), бесконечный (веселье бесконечное), бесчиленный (казни бещисленыя), божественный (божественыя книгы [дважды], божественное Писание [дважды], разумъ божественый), Божий (гневъ Божий, ярость Божия, страхъ Божий, Божий светъ, Божьи казни, Божия казнь), больший (болши гневъ);
В: великий (великый Господь, великая любовь), вечный (клятва вечна, scil. — проклятие);
Г: горький (горкая работа [дважды], scil. — рабство, горкое именье, горкый прибытокъ), горший (горшая беды), Господень (гневъ Господень), городской/градский (погибель градская), греховный (калъ греховный), грешный (грешный пастухъ, грешный отець);
Д: добрый (доброе обновление);
З: земной (печаль земная), злой (злой [нашъ] обычай, злые обычаи, дела злые, злый волкъ, безумье злое, злыя дела, дела злыя), злопамятливый (злу помятливый человекъ);
К: кривой (кривое резоимьство), кровавый (кровавое именье);
Л: людской (людския неправды), лютый (народ лютый);
М: мирный (исходъ миренъ), многий (печаль многая);
Н: напрасный (напрасное разлученье), небесный (Богъ небесный, небесный дождь), невинный (невиная человекы), немилостивый (языкъ немилостивъ, немилостивые суды), неповинный (неповинныя человеки), неподобный (дела неподобныя), неугасимый (огнь неугасимый), нечистый (нечистое прелюбодеиство);
О: огненный (каменье огненое, каменее огненое);
П: первый (первые роды, scil. — в древние времена, во времена прародителей), поганский (дела поганьския, обычай поганьскии), преподобный (преподобные мученики), пречистый (пречистый духъ);
С: светлейший (светлейший венець), святой (святыя книгы, святая места, Духомь святымь), священный (ссуды священный), сердечный (сердечныя очи), скверный (скверные суды), страшный (прещенье страшьное, судъ страшный, казни страшныя);
Т: темный (дела темная), тяжкий (дане тяжькыя, scil. — дани);
Ч: человеческий (басни человеческыя), честный (честные кресты).
Более выразительны сравнения у Серапиона (надо напомнить, что он неметафоричен), хотя в тексте «слов» их в общем немного. Но и по тому, что есть, можно судить об их характере. Ср.: Ныне землею трясеть и колеблеть, безаконья грехи многия от земля отрясти хощеть, яко лествие от древа; — […] мало приемлють, пременяються наказаньемь нашимь; мнози же не внимають себе, акы бесмертны дремлють; — Не тако скорбишь мати, видящи чада своя боляща, яко же аз, грешный отець вашь, видя вы боляща безоконными делы; — […] мы же в радости поживемъ в земли нашей, по ошествии же светa сего придемъ радующеся, акы чада къ отцю, к Богу своему и насладим царство небесное; — […] кровь и отець, и братья нашея, аки вода многа, землю напои […]; — […] в поношение быхомь живущимъ вьскраи земля нашея, в посмехъ быхомь врагомь нашимъ, ибо сведохомъ собе, акы дождь съ небеси, гневъ Господень!;— […] но акы зверье жадають насытитися плоть, тако и мы жадаемъ и не престанемъ, абы всехъ погубити; — […] еже любити ближняго своего аки себе […] Тако ненавидишь Господь Богъ насъ, яко злу помятива человека; — Ныне же, молю вы, за преднее безумье покайтесь и не будьте отселе аки трость, ветромь колеблема и др. Последнее сравнение, как уже говорилось ранее, заимствовано из ветхозаветного источника. Иногда сравнение организуется соотносительной рамкой тако (не тако) — яко или просто с помощью союза, яко, аки/акы. Впрочем, присутствие этого союза не всегда сигнализирует о сравнении [224].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)", комментарии и мнения людей о произведении.