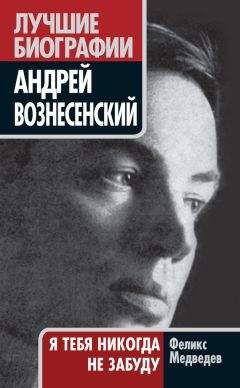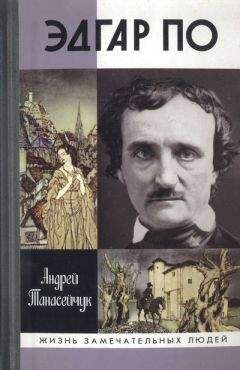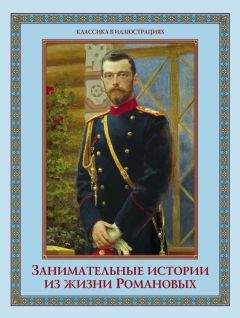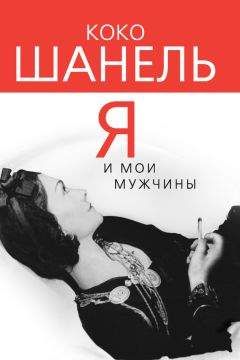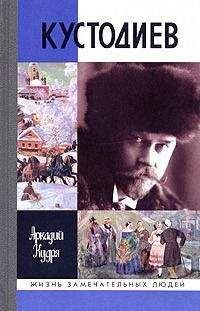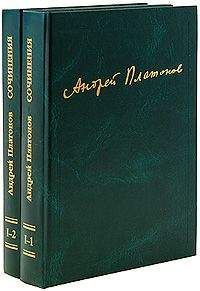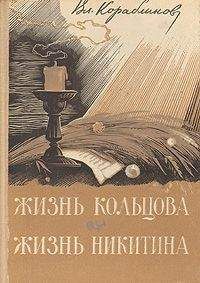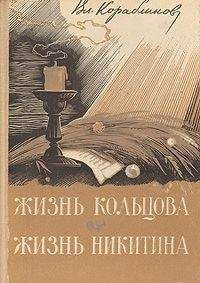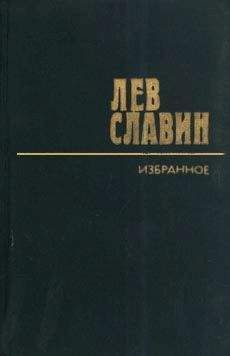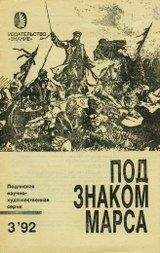Алексей Варламов - Андрей Платонов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Андрей Платонов"
Описание и краткое содержание "Андрей Платонов" читать бесплатно онлайн.
Андрей Платонов (1899–1951), самый таинственный и неправильный русский писатель XX столетия, прошел почти незамеченным мимо блестящих литературных зеркал эпохи. Однако ни в одной писательской судьбе национальная жизнь России не проявилась так остро и ни в чьем другом творчестве трагедия осиротевшего в революцию народа не высказала себя столь глубоко и полно. Романы, повести, рассказы, статьи, пьесы Андрея Платонова, большая часть которых была опубликована много лет спустя после его смерти, стали художественно веским свидетельством и сердечным осмыслением случившегося с русским человеком в великие и страшные десятилетия минувшего века. Судьба и личность Платонова никогда не ограничивались одной литературой и известны широкому читателю гораздо меньше, нежели его творчество. Между тем обстоятельства его жизни позволяют многое увидеть и понять в непростых для восприятия платоновских книгах. Алексей Варламов, известный прозаик и историк литературы, представляет на суд читателей биографию Андрея Платонова, созданную на основе значительного числа архивных документов и текстов, в том числе совсем недавно открывшихся, прослеживает творческий путь и воссоздает личностные, житейские черты своего героя, который, по выражению Виктора Некрасова, «в жизни не был писателем, но в писательском труде своем всегда оставался человеком».
По контрасту с военной прозой «Возвращение» поражает отсутствием описания батальной стороны дела, сохранившегося в сценарии, где есть и война, и отступление до Волги, и наступление Советской армии в Европу, и образы союзников, и европейская девушка Габриэль, зарабатывающая на жизнь проституцией с согласия своего бель-ами. В рассказе ничего подобного нет. Платонов избегает, казалось бы, единственно возможного пути изображения советского воина как мужественного человека, героя, не говорит ничего о его подвигах, доблестях и славе (если не считать сыновьего разочарования от скудости отцовских наград: «А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету», и так же скупо, с одной-единственной медалью вернулся домой старый солдат в «Никите»), и в этой принципиальной дегероизации, в резком снижении пафоса сказалось мучившее писателя и занесенное в «Записные книжки» опасение: «Затанцуют, затопчут память о войне».
Платонов этих бесконечных танцев как в переносном, так и прямом смысле не хотел. Он воспринял победу не только как триумф и торжество народа, но и как новое, посланное ему испытание. «Мы победили всех животных, но все животные вошли в нас, и в душе у нас живут гады» — осталась запись в фронтовом блокноте. Война не только возвысила людей, она одновременно их душевно покалечила, поделив огромный народ на тех, кто воевал на фронте, и тех, кто сражался в тылу, дав каждой из сторон свой опыт жизни, коснувшийся каждой семьи, и помимо видимого присутствия смерти в жизни одних и кажущейся удаленности от нее других это различие сказалось в горьких словах не по годам взрослого мальчика Петрушки в ответ на недовольство отца, что его сын «рассуждает, как дед, а читать небось забыл», говорящего: «…пускай я дед, тебе было хорошо на готовых харчах».
То, что война для Петрушки — это прежде всего готовые харчи («Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят»), означает меру правды в детском сознании, для Платонова с его давним вниманием к теме голода особенно страшную и непоправимую. Но эта же пропасть разделяет мужчину и женщину, которая от невыносимой тоски изменила мужу с другим человеком и «ничего не узнала от него, никакой радости». Пожалуй, никогда у автора не было такого понимания женщины, ее психологии, естества, снисхождения к ней и одновременно возвеличивания ее, как в словах покаяния Любови Васильевны перед мужем: «…мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей… Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет! <…> Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла… Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..»
Сытый голодного не разумеет, человек войны не может понять человека тыла («Что ты понимаешь в нашей жизни? — Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя»), взрослые не разумеют детей («„Даты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток“. — „Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие…“»), мужчины женщин («Правда говорят, баб много, а жены одной нету»)[76], и об этой разделенности, о разобщении народа в войну и после нее Платонов и написал в «Возвращении» — произведении, которое можно было бы назвать пацифистским (недаром Платонова обвиняли в «дешевом пацифизме», пусть даже и не за «Семью Иванова»), когда б идеи рассказа не лежали гораздо глубже, отвечая не только на толстовский вопрос «что случилось с народом?», но и касаясь самой эгоистичной человеческой природы, чье спасение заключено в преодолении индивидуализма.
Петрушкины слова «у нас дело есть, жить надо» прямым текстом выразили платоновское вероисповедование, тем более драгоценное, что автор рассказа считался глашатаем уныния и пессимизма, «певцом смерти», да и сам уже наполовину ей принадлежал, об этом зная, но все равно — жить надо!
В «Возвращении» нет отрицательных героев и не действуют никакие сознательные злые силы. При всей остроте драматургического сюжета, подразумевающего нравственные конфликты между людьми по линии добра и зла, чести и бесчестья, благородства и низости, две незнакомые друг с другом соперницы — юная Маша, которая не решается спросить Иванова, женат он или нет, и Люба, у которой даже мысли нет задать мужу вопрос, был ли ей верен всю войну он, настолько поглощена она своей «виной», а также два «соперника» гвардии майора — эвакуированный Семен Евсеевич и безымянный инструктор, к которому потянулась Любовь Васильевна, потому что «он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно» — все они хорошие, славные люди. А прямым антагонистом себялюбца Иванова, не злодея, не негодяя, но своеобразного человека горы, взошедшего во время войны на вершину собственной гордости и доблести, оказывается его сосед дядя Харитон, который «тоже на войне был и домой вернулся».
Харитон — представитель народного, простосердечного сословия, которое, как только началась война, знало: «Отвоюемся, тогда все по родным дворам разойдемся — кто к матери, кто к жене с ребятишками, а кто один был — тот семейство себе заведет». Слова, которые произносит герой написанной в 1942 году в Уфе пьесы «Без вести пропавший, или Избушка возле фронта», с их ясной, но при этом идеальной, сказочной и неизбежно возвышенной картиной мира (и этим опережающим углом зрения отличаются обе платоновские военные пьесы), подвергаются в «Возвращении» испытанию «низшим», и Харитон выдерживает его с той мерой чести и находчивости, которую ценит в нем автор:
«Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают… Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: „Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была“. А сам смеется, и тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: „Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было, и Магдалинки надобавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал…“».
История Харитона и его жены, рассказанная маленьким старичком Петрушкой в назидание родителям, — рассказ в рассказе, образец идеальной новеллы, героического анекдота о русском воине, но желаемого эффекта у слушателя, то есть у отца, рассказчик не достигает. Слова Петрушки ложатся мимо цели, хотя и вызывают в душе Иванова нечто похожее на угрызения совести или страх разоблачения. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас…»
Заключительные страницы «Возвращения», когда Иванов уезжает из дома, решив начать другую жизнь с дочерью пространщика, волосы которой пахнут природой, и вдруг видит своих детей, — редкий даже в русской литературе пример того, как использование запрещенного приема (в финальной сцене с бегущими за поездом мальчиком и девочкой можно увидеть попытку воздействия, говоря словами Ф. Человекова, на неврастенические свойства читателя) не убивает текст, а непостижимым образом возвышает его.
«Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда, в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.
Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Андрей Платонов"
Книги похожие на "Андрей Платонов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Варламов - Андрей Платонов"
Отзывы читателей о книге "Андрей Платонов", комментарии и мнения людей о произведении.