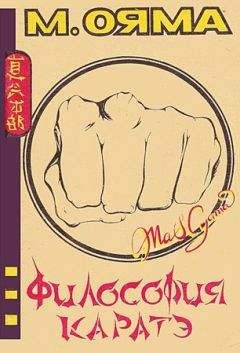Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия"
Описание и краткое содержание "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия" читать бесплатно онлайн.
Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж. Деррида, принимают участие философы Н. Автономова, В. Подорога и М. Рыклин. В приложении приводятся краткие биографические сведения о Ж. Деррида и библиография его основных произведений. Для читателей, интересующихся современной философией и культурой.
В. П. За пределами языка есть текст…
Ж. Д. Да, но тогда существуют различия, которые являются различиями в способах интерпретации этого «быть за пределами», отношения к этому языка, как и его отношения к тексту или следам; то, что мы здесь называем «быть за пределами языка», для меня означает материю следов различных текстов в самом широком смысле. Интерес же к тому, что Валерий назвал топологическим языком, топологическими структурами за пределами языка, для меня структурно неизбежен. Я бы предложил переформулировать его вопрос следующим образом: как преобразовать определенный тип топологического языка посредством некоторого другого, причем так, чтобы различие было не оппозицией между топологическим и нетопологическим языками, но различием или оппозицией внутри топологического языка.
Чтобы это пояснить, я вернусь к понятию опространстливания. Опространстливание (espacement) — не просто интервал. Английское слово spacing тоже вполне подходит для передачи его смысла. Французское espacement, как я его употреблял, означает также открытость промежутка…
Н. Автономова. Но ведь это понятие объединяет два момента: отстранение в пространстве и отсрочку во времени…
Ж. Д. Да, именно это я и называю пространственным-становлением-времени, это разновидность времени в пространстве. В рамках этой структуры нельзя противопоставлять друг другу или различать пространство и время. И эта структура — не скажу, что она фундаментальна, — но повсеместна и совершенно несводима в опыте. Она не просто конкретно представлена, к примеру, тем, что здесь говорилось в связи с Тыняновым, — молчащей строфой звукового интервала — все это любопытные примеры абсолютно всеобщей структуры. Как только возникает опыт, возникает и отсылка к чему-то иному, как-то: следу, тексту, а чтобы след оставил след, требуется опространстливание. Поэтому, если глубинная связь между опространстливанием и топологическим языком существует, тогда просто невозможно даже мечтать о редукции, о нейтрализации топологического языка. Единственное, что мы можем попытаться сделать, это преобразовать некоторый тип или преобладающую, господствующую структуру топологического языка в другие, то есть преобразовать опыт пространства, опыт взаимосвязи между языком и пространством. Хайдеггер, как Вы знаете, сказал где-то, что само наличие у нас того, что мы именуем пространственными метафорами, не случайно. Язык не может обойтись без пространственных метафор. Поэтому мечта о критике или редукции пространственных, опространстливающих метафор — своего рода метафизическая мечта; это не значит, что мы должны принимать любые пространственные метафоры, но в нашей власти заменить пространственную метафору иной метафорой, иным типом метафорики. И еще один момент. Я пытался, раз уж разговор зашел о пространственной метафоре, проанализировать эту проблему в текстах, посвященных метафоре, а именно: в «Белой мифологии», еще одном тексте — «Le retrait de la métaphore», вошедшем в «Psyché», и даже в «Geschlecht»; в них содержится кое-что по поводу неизбежной пространственности метафоры Dasein. Что я не могу здесь сделать, поскольку это ваша задача и ваше собственное пространство, так это сказать, как можно проиллюстрировать эти проблемы примерами из русской литературы. Я уверен, что в упомянутой Валерием литературной традиции, начиная с Гоголя, существуют некоторые специфические проблемы, заслуживающие постановки, и это то, что можете сделать только вы сами.
Н. А. Некогда Вы заметили, что все протесты против разума могут формулироваться исключительно в формах самого разума (это говорилось по поводу «Истории безумия» Фуко, написанной во вполне «разумной» форме). Этот парадокс меня всегда занимал. Наверное, та же ситуация возникает и относительно языка. Думаю, что любая «борьба с языком» возможна — во всяком случае в литературе — лишь в формах самого языка. И тогда оказывается, что любые «сверхъязыковые», в том числе «пространственные», интуиции (к примеру — топологические деформации в языке Андрея Платонова) всегда записаны и представлены в тех или иных языковых формах; именно через эти формы они вообще улавливаются, разгадываются, анализируются… Другое дело, что надо уметь их улавливать, а то получится, что в языке нет ничего, кроме самого языка. А теперь — о наших проблемах с точки зрения тех традиционно философских сюжетов, которые — хотим мы того или не хотим — и поныне живо присутствуют в любой нашей попытке «мыслить иначе». Для меня, в частности, небезразличен эпистемологический, если угодно, статус самого моего усилия в работе с языком и текстами. Познается ли что-либо при этом? Каковы условия возможности (или невозможности) такого постижения? И как в этой работе соотносится: своеобразное — с универсальным, детали и частности — с желанием быть понятым, услышанным? Вчера в лекции этот вопрос фактически формулировался Вами так: можем ли мы примирить, согласовать «идиоматическое» и «рациональное»? Возможен ли вообще выбор между тем и другим? В самом деле, вот мы сталкиваемся, на одном полюсе, с массой особенностей — национальных, культурных и др., а кроме того еще и с бездной явно не высказанного и не представленного. На другом же полюсе — с глубоко ощущаемой каждым человеком потребностью обобщения, понимания, Aufklärung(просвещения. — Пер.). Наверное, бывают такие периоды, когда одна или другая часть этой двуединой задачи воспринимается культурой или индивидом как более значимая, и тогда выбор происходит как бы сам собой, спонтанно. Правда, и тут дело обстоит не просто: начав конкретизировать какое-то универсальное положение, можно вскоре заметить, сколь опасной становится воинствующая экзальтированность по поводу тех или иных частностей, пренебрежение целым. Так вот — мне хотелось бы услышать, как Вы расцениваете эту возможность-невозможность, métier impossible. Причем, если выбор и в самом деле невозможен, значит ли это, что и спецификация, и универсализация могут осуществляться посредством какой-то одной общей стратегии? Диалектики — наверное, с излишней поспешностью — притязают на это. Как подойти к проблеме, если и не решить ее в строгом смысле слова?
Ж. Д. Нет, ее нельзя решить…
Н. А. В принципе нельзя? Но все равно этот вопрос стоит перед нами всеми.
Ж. Д. Прежде чем я скажу что-то в ответ на Ваш вопрос, что-то неизбежно неутешительное, я бы подчеркнул, что невысказанное, то, что Вы называете невысказанным, или неведомые возможности языка, упоминавшиеся вчера во время лекции, не есть просто нечто находящееся вне языка, оторванное от идиомы. Невысказанное, скажем, невысказанное здесь, в России, или, на известном этапе, в Советском Союзе, тесно связано с высказываемым, это не просто нечто нейтральное, это не пустота, не что-то негативное. Невысказанное детерминировано, оно детерминируется самой своей связью с тем, что…
Н. А. Как раз и высказывается?
Ж. Д. Да, высказывается или репрессируется, однако не обязательно репрессируется, даже если невысказанное располагается глубже, чем психологическое вытеснение или политическое и полицейское подавление; невысказанное не есть все, что угодно, это не просто не-язык, не просто нечто чуждое тому, что высказывается или пишется. А раз так — вы должны, точнее, мы должны артикулировать это детерминированное невысказанное через то, что говорится или уже сказано. Тогда и встает ритуальный вопрос: существует ли одна стратегия такой артикуляции или различные стратегии? Стратегии непременно множественны. Если вы полагаете, что способны обнаружить одну стратегию, можете быть уверены в том, что она плоха. Эту проблему нужно решать каждый раз в зависимости от конкретной ситуации, несводимо конкретной и единичной. Это не эмпирическое утверждение. Я думаю, мы должны реагировать на эту проблему по-разному, не только исходя из более или менее общей ситуации, — например, сегодня эта проблема стоит иначе в Советском Союзе по сравнению, скажем, с Польшей, Венгрией, Румынией или Восточной Германией. Стоит она иначе и по сравнению с Западной Европой и так далее, но даже внутри Советского Союза она меняется от одной республики к другой, а внутри республики она неодинакова для какой-нибудь лаборатории и, скажем, для всей остальной Академии наук, неодинакова она и для разных индивидов. Так что это не эмпирическое утверждение, раз оно предписывает нам, не скажу подгонять или приспосабливать стратегию, но каждый раз ее изобретать. Всякий раз вам приходится изобретать собственный способ выражения, свою идиому, и ответ ваш идиоматичен. Вопрос в том, как примирить идиому со всеобщим разумом, со всеобщим прозрачным языком и так далее — в соответствии с идеалом модернистского или постмодернистского Aufklärung. Таким образом, проблема в том, как примирить ценность идиомы, которая до известной степени непереводима (ведь нет ничего абсолютно непереводимого, как нет ничего абсолютно переводимого), словом, как примирить непереводимое и перевод, как примирить идиоматический язык со всеобщим разумом, опосредованием и так далее. Но ответ на этот вопрос о примирении обоих полюсов неодинаков, неодинакова и подпись под ним. А это означает, что нет общего правила, и никто никому не может дать какого-либо общего совета.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия"
Книги похожие на "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия"
Отзывы читателей о книге "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия", комментарии и мнения людей о произведении.