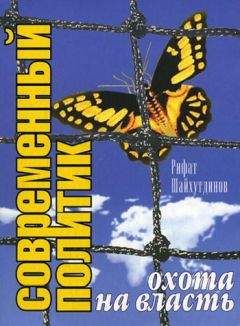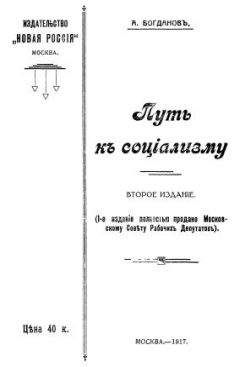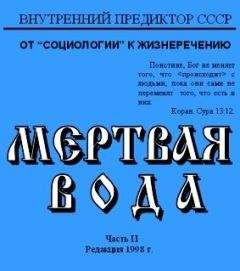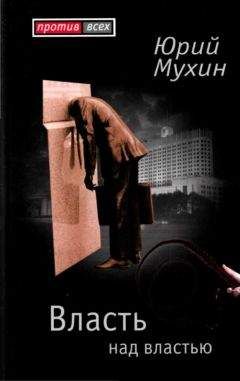Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Часть 2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Интеллектуалы и власть. Часть 2"
Описание и краткое содержание "Интеллектуалы и власть. Часть 2" читать бесплатно онлайн.
Книга М. Фуко «Интеллектуалы и власть», Часть 2, представляет собой продолжение публикации избранных политических работ одного из крупнейших французских мыслителей XX в., начатое издательством «Праксис» в 2003 году. В Части 2 собраны статьи, интервью, материалы круглых столов с 1971 по 1982 гг., в которых Фуко продолжает исследование вопросов, определявших его творчество на протяжении всей жизни: какая связь между властью и знанием воплощена в современных правовых институтах? Что такое «государственный интерес»? И, наконец, что такое современная политическая рациональность, как она возникла, и чем отличается от политических моделей прошлого?
— В каком смысле Вы говорите об отголоске? Разве теоретические дискуссии, происходившие во Франции, были лишены собственной оригинальности, выходившей за рамки вопроса о структурализме?
— Все это позволяет лучше понять напряжение и природу споров вокруг структурализма, имевших место на Западе. Было затронуто несколько важных вопросов: постановка теоретических проблем, уже не сфокусированных на субъекте; исследования, которые, будучи вполне рациональными, не были бы марксистскими. Это стало рождением определенного рода теоретической рефлексии, отделившейся от великого послушания марксизму. Происходившая на Востоке борьба и характерные для нее ценности оказались применены к тому, что творилось на Западе.
— Я не слишком хорошо понял смысл этого переноса. Возрождение интереса к структурному методу и к его традиции в странах Востока мало похоже на антигуманистическую теоретическую линию, которую выражали французские интеллектуалы…
— То, что происходило на Востоке и на Западе, однотипно. Речь шла о следующем: в какой степени можно создать формы мышления и анализа, которые не были бы иррационалистическими, которые не были бы правыми и в то же время не подводились бы под марксистскую догму? Именно эта проблематика изобличалась теми, кто опасался подобной постановки проблем, общим, упрощающим и вносящим путаницу термином «структурализм». И почему появилось это слово? Потому что дискуссия по поводу структурализма занимала центральное место в СССР и в странах Востока. И здесь и там речь шла о возможности формирования рационального и научного теоретического исследования, не подчиняющегося законам и догматизму диалектического материализма. Именно это происходило как на Западе, так и на Востоке. С той разницей, впрочем, что на Западе речь шла не о структурализме в точном смысле этого слова, тогда как в странах Востока именно структурализм утаивали и продолжают утаивать. Вот чем объясняются многие анафемы.
— Любопытно, однако, что Луи Альтюссер был также предан анафеме, хотя его исследование полностью отождествлялось с марксизмом и даже претендовало на то, чтобы быть его наиболее верной интерпретацией. Итак, Альтюссера также отнесли к структуралистам. Как Вы тогда объясните, что такая марксистская работа, как «Читать „Капитал“», и Ваши «Слова и вещи», опубликованные в 1960-е годы и имевшие совершенно несходную ориентацию, стали мишенями схожей антиструктуралистской полемики?
— Я не могу Вам точно сказать что-то об Альтюссере. Что касается меня, я думаю, что в действительности меня хотели заставить расплатиться за «Историю безумия», подвергая нападкам другую книгу, «Слова и вещи». «История безумия» породила известное беспокойство: эта книга переводила внимание с «благородных» материй на второстепенные; вместо того чтобы говорить о Марксе, она анализировала такие незначительные темы, как практики изгнания. Скандал, который должен был разразиться ранее, произошел после выхода «Слов и вещей» в 1966 году: об этой книге говорили как о чисто формальном, абстрактном тексте. Иными словами, о ней говорили то, чего не могли сказать по поводу моей первой работы о безумии. Если уделить пристальное внимание «Истории безумия» и последовавшему за ним «Рождению клиники», то мы заметим, что «Слова и вещи» вовсе не представляют собой, по моему мнению, единой книги. Эта книга заполнила определенную нишу с целью дать ответ на некоторые вопросы. В ней я не применил всего метода, не показал всех интересующих меня тем. Впрочем, в конце книги я непрерывно говорю о том, что речь идет об исследовании, проводимом на уровне преобразования основополагающего знания и познания, и что предстоит провести еще целую работу по выявлению причинно-следственных связей, а также провести разъяснения «вглубь». Если мои критики читали мои предыдущие работы и не пожелали забыть о них, то им следовало бы признать, что в них я уже выдвинул некоторые из этих толкований. Таково укоренившееся, по крайней мере во Франции, правило: рассматривать книгу как нечто абсолютное и читать каждую книгу отдельно, тогда как я пишу мои книги сериями: первая оставляет открытыми проблемы, на которых основана вторая и которые истолковывает третья; и между ними не существует линейной последовательности. Они пересекаются и в чем-то совпадают.
— Таким образом, Вы связываете книгу о методе «Слова и вещи» с такими исследовательскими работами, как книги о безумии и клинике? Какие проблемы заставили Вас перейти к более систематическому изучению, откуда Вы впоследствии выделили понятие «эпистемы», или комплекса правил, управляющих дискурсивными практиками в данной культуре и в данную историческую эпоху?
— В «Словах и вещах» я развивал анализ классификаций, размещения в таблице, упорядочивания экспериментального знания. На эту проблему я не без оснований обратил внимание во время работы над «Рождением клиники», она затрагивает вопросы биологии, медицины и естественных наук. Однако с проблемой классификаций в медицине я уже сталкивался при работе над «Историей безумия», поскольку аналогичная методология стала применяться в области душевных болезней. Здесь все отсылало одно к другому, подобно пешкам на шахматной доске, которые передвигаешь с клетки на клетку, иногда зигзагом, иногда перепрыгивая через что-нибудь, но все время на одной и той же доске; именно поэтому я и решил систематизировать в одном тексте сложную картину, проявившуюся в моих исследованиях. Так появились «Слова и вещи»: в высокой степени техническая книга, адресованная в особенности методологам истории наук. Я написал ее после разговоров с Жоржем Кангийемом и предполагал обратиться в ней в основном к исследователям. Однако, честно говоря, это не те проблемы, которые меня больше всего волновали. Я Вам уже говорил о пограничных переживаниях: вот эта тема меня действительно занимает. Безумие, смерть, сексуальность, преступление являются для меня весьма значимыми вещами. Зато «Слова и вещи» представляются мне чем-то вроде формального упражнения.
— Надеюсь, Вы не хотите заставить меня поверить, что «Слова и вещи» не имеют для Вас никакого значения: в этом тексте Вы совершили значительный шаг к упорядочиванию Вашей мысли. Уже не первоначальное переживание безумия является полем исследования, им становятся критерии и организация культуры и истории…
— Я говорю это не для того, чтобы дистанцироваться от результатов, которых мне удалось достичь в этой работе. Однако «Слова и вещи» — не слишком моя книга: это маргинальная книга, поскольку она лишена страсти, руководившей мною при написании других произведений. Однако любопытно, что «Слова и вещи» стали книгой, снискавшей наибольший успех у публики. Критика, за редким исключением, была невероятно безжалостной, и люди покупали эту книгу больше, чем какую-либо из других моих книг, тогда как распространение книги — самый сложный момент. Я говорю об этом, чтобы указать на характерную для 1960-х годов нездоровую взаимосвязь между покупаемостью теоретической книги и критикой этих же книг во французских интеллектуальных журналах.
В этой книге я намеревался сопоставить три научные практики. Под научной практикой я понимаю определенный способ регламентации и формирования дискурса, выделяющего частную объектную область и в то же время определяющего положение идеального субъекта, должного и могущего познавать эти объекты. Я счел достаточно странным, что установления трех различных, не связанных друг с другом на практике областей: естественной истории, грамматики и политической экономии — сложились приблизительно в один и тот же период в середине XVII века, а в конце XVIII века претерпели преобразования сходного типа. Это была чисто сравнительная работа с разнородными практиками. У меня не было необходимости, допустим, характеризовать возможные отношения между рождением анализа богатств и развитием капитализма. Проблема состояла не в том, чтобы понять, как возникла политическая экономия, но в том, чтобы найти общие моменты в различных дискурсивных практиках — провести сравнительный анализ внутренних процедур научного дискурса. Это проблема, которой в то время интересовались немногие, разве что некоторые историки науки. Вопрос, бывший и всегда остающийся доминирующим, в общем таков: как некоторый тип знания, претендующий на научность, возникает на основе реальной практики? Эта проблема всегда актуальна, остальные представляются второстепенными.
— И эта основная проблема формирования дискурса на основе социальной практики, тем не менее, остается в тени в «Словах и вещах». В критике книги одной из наиболее едких колкостей, мне кажется, было обвинение в структурном формализме, т. е. в сведении проблемы истории и общества кряду прерывностей и разрывов, присущих структуре познания.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Интеллектуалы и власть. Часть 2"
Книги похожие на "Интеллектуалы и власть. Часть 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Часть 2"
Отзывы читателей о книге "Интеллектуалы и власть. Часть 2", комментарии и мнения людей о произведении.